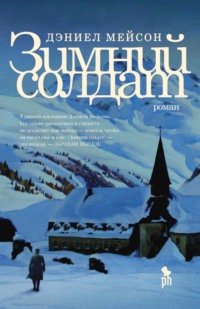Полная версия
Северный лес
Надеюсь и рассчитываю воротиться в наши холмистые края в начале зимы, тогда и в письме этом не будет надобности. Однако я уже бился на многих полях и не могу обманываться насчет угрожающей мне опасности. Если слова мои порой будут казаться спутанными, то это потому, что я должен кончить к отбытию на рассвете. Свое напутствие я пишу в самых неудачных обстоятельствах, так пусть же это будет первая глава большого труда, который я однажды завершу.
О МОИХ КОРНЯХ И О ТОМ, ПОЧЕМУ Я СТАЛ ВЫРАЩИВАТЬ ЯБЛОКИНет нужды тратить эти мимолетные ночные часы на историю нашего рода. Об Осгудах из Нортгемптоншира писал еще мой дядя; всех читателей я отсылаю к его труду. Мы принадлежим к армейским Осгудам. Во всей Англии не сыскать семьи, служившей доблестнее, чем мы; я и сам навеки остался бы на полях милого Альбиона, кабы не умерла родами моя первая жена. Голова моя была седа, но в Англии ничто меня более не удерживало. Я прибыл в Америку воевать, вновь обрел любовь, гордо сражался с французами и индейцами[7]. В 48-м пехотном дослужился до майора, говаривали, что произведут в полковники, даже в генералы, но тут под действием высшей силы принял я судьбоносное решение оставить в прошлом маршировку и муштру, свист флейты, бой барабана и запах пороха и посвятить свою жизнь яблокам.
Как же так вышло? Окидывая взглядом свой земной путь, увижу ли я искру, разжегшую в душе моей эту прихоть? Неужто у реки Святого Лаврентия есть тайный приток, ведущий в Дамаск? Все началось со сновидения на смертном одре, но и у сновидений есть причины. Быть может, дело в хорошенькой фермерской дочке, протянувшей мне в далекие годы моего детства нагретый солнцем плод и заронившей дремлющее семя в мое сердце? В акварельных карточках моего букваря? В дивных плодах, что пирамидами высились на прилавках в нашей деревне?
В поцелуе, сорванном где-то с чьих-то влажных от сидра губ?
В зме́е, что искушает каждого из нас?
Или же все дело во французском солдате, которого в тот роковой день на Полях Авраама я застиг врасплох, когда он резал штыком сладкий пепин, – солдате, который поднялся и вонзил штык мне в грудь?
О МОЕМ РАНЕНИИ И ВОСПОСЛЕДОВАВШЕМ СНЕМне сказали, что лезвие прошло меж ребер и нежно поцеловало меня в сердце. Что, если бы не крики, и пальба из ружей, и грохот пушек, можно было бы расслышать, как сердце бьется о сталь. Еще дюйм – и я навеки канул бы в небытие. Но Господь меня заметил. Или же попросту взял кисть и подправил батальную сцену на Своем холсте, сохранив тем самым мою жизнь.
Последнее, что я помню, – хруст разламывающегося яблока. Слуга мой, Рамболд, видевший, как я упал, отнес меня в палатку хирурга. Когда я очнулся, полог палатки хлопал на ветру, рядом кричал другой раненый. Рамболд сидел подле моей кровати, и по лицу его я тотчас понял, что меня ждет. Отдаваясь в руки смерти, я попросил, чтобы тело мое возвратили жене и дочерям, закрыл глаза и уснул.
И привиделся мне сон: я снова в Англии, иду по широкому зеленому полю, взбираюсь на холм, а по ту сторону холма – дерево. На дереве том играют дети в белых сорочках, бегают по веткам, точно бельчата, и у каждого по яблоку в руке. С любопытством бросились они ко мне, и тогда я спросил, что такое они едят, и они ответили, что я достиг дерева, кормящего души. Не хочу ли я отведать его плодов? О да! Живот мой сводило от голода. Я протянул руку, но обнаружил, что лежу в походной палатке, темной и холодной, и только полог хлопает на равнинном ветру.
Рамболд ждал, чтобы вручить мне письмо от Констанции, моей сестры.
Дорогой Чарльз, с тяжелым сердцем сообщаю…
Я прочел его медленно, не понимая, отчего Господь, столь милостивый к своим солдатам, не бережет солдатских жен.
О МОЕМ ВОЗВРАЩЕНИИ В ОЛБАНИ, СУДЬБОНОСНОМ РЕШЕНИИ, ПРИНЯТОМ ТАМ, И ВЫДВИНУТЫХ ПРОТИВ НЕГО ДОВОДАХВсю зиму провел я в госпитале квебекского гарнизона. Как только здоровье мое окрепло, я возвратился в Олбани, но дом мой пустовал, а дочери жили с сестрой.
Я не видел моих милых девочек два года, и сперва они робели, а затем, признав меня, бросились в мои объятья. Им уже стукнуло четыре. Природа сотворила их похожими как две капли воды: золотые кудри, розовые губы. У них были куклы, и прочие игрушки, и кошка, и они спросили, убил ли я кого-нибудь на войне, и можно ли взглянуть на мою рану, и слыхал ли я, что матушка нас покинула? Теперь она приглядывает за ними с небес; они потянули меня за руки к маленькому памятнику в саду.
Вечером, когда девочки уже спали, мы собрались в гостиной – я, сестра с мужем и брат мой Джон, служивший в Квебеке вместе со мной.
Они спросили, что я намерен делать дальше.
Я поведал им о своем сне. Когда я договорил, сестра взяла меня за руку. Она была искусная толковательница снов, знала о них все – очевидно, мне было ниспослано видение Вечного мира, куда вступает душа. Дитя из моего сна – это моя жена, яблоко – ее преданность.
– Но я проснулся, так и не отведав его, – сказал я, и сестра понимающе кивнула, а затем объяснила, что Господь желает, чтобы я жил.
Брат спросил, когда я ворочусь в гарнизон. Ходили слухи, что до конца года меня ждет повышение, ему об этом сказал не кто иной, как кузен Амхерста[8]; у кузена этого, между прочим, прелестная сестра, писаная красавица и уже на выданье.
Я видел ее и знал, что это правда. Но вместо радости ощутил лишь боль в груди, хотя за недели, проведенные в госпитале, рана моя затянулась. Ясно помню, как взглянул на свое отражение в стеклянной дверце шкафа. В ту пору я носил длинные бакенбарды, а вьющиеся волосы аккуратно зачесывал назад. В белом жабо я выглядел так, словно спустился с облаков. Быть может, и впрямь спустился! Ведь Господу угодно было, чтобы я выжил, – а впрочем, дело не только в этом. С того дня на Полях Авраама страсть моя лишь возросла. От Квебека до Олбани я попробовал каждое яблоко, попавшееся на моем пути. Я взглянул на родных. Господу угодно, сказал я им, чтобы я разбил сад.
О МОЕМ ЯКОБЫ “ПОМУТНЕНИИ” И О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ УМАЛИШЕННЫЙВозьмите совершенно здорового человека, и пусть он не согласится с общепринятым мнением – его тотчас обвинят в ереси, невежестве или помешательстве. Таков был и мой удел: когда я рассказывал брату с сестрой о моих мечтах, они терпеливо слушали, а сами вступили в сговор за моей спиной. В ту пору я много бродил по городу, размышляя о будущем, и как-то раз, возвратившись, обнаружил, что все домашние, кроме Джона и Констанции, загадочным образом исчезли. Моих девочек, доложили они, повезли на прогулку, так будет лучше, ведь в половине четвертого придет доктор Арбетнот, любезно согласившийся меня осмотреть. Возразить я ничего не успел, ибо часы в холле пробили половину, и в ответ раздался негромкий наглый стук. Был бы этот доктор столь же мудр, сколь пунктуален! Я слыхал о нем – и о том, что его считали великим военным хирургом, чем он очень гордился, и о том, что в солдатских кругах его шепотом называли Доктор-Отхвати-Ногу. Кто поразумнее, быть может, и вовсе не пустил бы его на порог, однако я счел надобным подчиниться хотя бы для видимости. Собравшись с духом, я улыбнулся этому идиоту и пригласил его в гостиную, а Констанция позвонила, чтобы подали чаю. Доктор был бодр и весел, ибо только что проводил кровопускание: всего три литра, и ребенок исцелился как по волшебству. Это лишний раз доказывает, сказал он, что болезни не отступают, потому что врачи лечат их недостаточно решительно, и, зная, что перед ним служивый, он перешел на самый воинственный язык: надобно “атаковать” мою причуду, изловить виновный гумор и расправиться с ним без всякой пощады – он ударил по столу кулаком, – как с самым гнусным предателем.
Разумеется, тут я должен был немедля встать и уйти, но он вел себя так заносчиво, что мне захотелось бросить ему вызов. Пустите мне кровь, сказал я, закатывая рукав.
Ан нет, кровопускание годится для обыкновенного помутнения рассудка, а мой случай особый – помомания, то бишь помешательство на фруктах. У солдата, объяснял он, много часов пролежавшего в поле без чувств, соотношение жидкостей будет нарушено из-за вредоносных миазмов. Селезенка сместится и нарушит движение лимфы, лимфа, в свой черед, воздействует на кровь, кровь – на флегму, флегма – на желчь, желчь – на jus gastrique[9] и так далее, пока изменения не затронут жидкость спинного мозга. А оттуда рукой подать до головного мозга, и вот уже удлиняется медулла и отворяется недавно открытый малый оперкулум, “караульный дом”, через который в мозг залетают прихоти, фантазии, образы и даже – он понизил голос – страсти, или, как говорят французы, passions.
Однако причина моих бед не в этом.
– Неужели?
Доктор Арбетнот с прискорбием покачал головой. Всем нам знакомы мимолетные прихоти, фантазии, образы, страсти. Право, не далее как вчера ночью, когда он… гм… неважно, чем он занимался, но на миг ему почудилось, будто перед ним не жена, а ее сестра, хотя они нисколько не похожи! Нет, опасность таится в преждевременном затворении уже упомянутого оперкулума и последующем застревании в мозгу уже упомянутых прихотей, фантазий, образов и страстей, которые, точно кролики, точно хомяки, точно (упаси Боже) кролики с хомяками, не могут противостоять столь тесному соседству в столь укромном уголке, – это как путешествовать с дамой в жарком полумраке трясущегося экипажа… Впрочем, суть мы уловили – все дело в разбухании, размножении, слиянии, порождении еще более прихотливых прихотей, фантастических фантазий, страстных образов, похотливых страстей и прочая и прочая, и вот вам результат: изящным движением руки он указал на меня.
– Простите?
– Вы. Вот это вот.
Я признался, что не понимаю, о чем он.
Он уже готов был вновь пуститься в объяснения, но тут заговорил мой брат:
– А этот злосчастный… оперкулум… Нельзя ли его удалить?
– Удалить малый оперкулум! – Арбетнот от изумления чуть не опрокинул стол, а потом давай хохотать, да так, что обвислые щеки его тряслись, а на глаза навернулись слезы. А он-то думал, что слышал все!
Мы ждали. Во мне зародилась надежда, что сестра с братом увидят, кто тут сумасшедший.
– Удалить! Боже, нет! – вымолвил наконец Арбетнот. – Но открыть…
Лечение, как выяснилось, было изобретено задолго до обнаружения самого оперкулума. Главное тут – задобрить его каким-нибудь лакомством, особенно неравнодушен он к хлебу, вымоченному в енотовом семени и на три дня привязанному к вымени немытой овцы. Стоит лишь вдохнуть сие лекарство – и пары, запертые за малым оперкулумом, вылетят быстрее, чем толпа заключенных в открытые тюремные ворота.
По счастью, средство у него с собой.
– Что скажешь? – спросила сестра.
Я был так рад, что мне не грозит кровопускание и слабительное, что послушно наклонился над склянкой, которую доктор извлек из-под плаща.
– Вдыхайте, – велел Арбетнот. – И как можно глубже.
Несколько времени я вдыхал. О чем никто из них не догадывался, так это о том, что давеча я подхватил от дочерей сильнейший грипп и, как следствие, напрочь лишился обоняния. Родные мои побледнели. Из угла, где стояла клетка с попугаем, раздался приглушенный стук. Даже у доктора заслезились глаза.
– Как мы узнаем, отворился ли малый оперкулум? – выдавила наконец Констанция.
Но на сей счет мнения разнились. Лаврентий описывал облачко дыма, Ундертий – зернышко, вылетающее из ноздри, а знаменитый Антий вовсе считал, что причуды не имеют физической формы, и такой же точки зрения придерживался Арбетнот.
– Мы поймем, что он отворился, – ответил доктор, – когда больной перестанет думать о фруктах.
– Думать о фруктах не безумие, – сказал я.
– Молчи, – сказала Констанция.
– Вдыхай, братец, – сказал Джон.
Я вдыхал и вдыхал, пока сестра моя не лишилась чувств, ибо овца и впрямь была в самом соку.
– Быть может, – сказал Джон, – все-таки пустите ему кровь?
Я столь подробно излагаю эту историю, чтобы вы сами могли судить, кто из нас осел, и не забывали об этом, когда меня вновь начнут обвинять в безумии.
ОБ ОТЪЕЗДЕ И О ТОМ, ЧТО Я НАШЕЛМеня объявили неизлечимым и посоветовали заточить в приют для помешанных, однако родные мои понимали, что это бросит тень на всю семью, а потому мне позволено было разгуливать на свободе.
В награду за военную службу я получил земельный надел недалеко от Фокскилла, но, проехавшись по окрестным фермам, заключил, что для выращивания яблок места там слишком равнинные, а почва слишком влажная. Оставив девочек с сестрой, я пустился на поиски новой земли, а поскольку я уже разменял шестой десяток и времени на ошибки у меня не было, я решил, что буду искать дерево, а земля приложится. И не какое-нибудь дерево, а непременно местное. Немало привозных сортов повидал я в питомниках Олбани, но мне они и даром были не нужны. Нет уж, никаких английских неженок, никаких европейских пустышек, запачканных грязными лапами французских fruitiers![10] Мои деревья будут дикими, американскими. Вокруг них я выстрою свою новую жизнь.
Итак, когда телеги начали съезжаться на базарные площади, мы с моим верным Рамболдом оседлали коней и отправились в путь.
Я быстро убедился, что яблони в Новом Свете встречаются на каждом шагу – чахлые дички, выросшие из огрызков в придорожных канавах, стройные ряды “Пепинов Ньютаун”, деревья с плодами невиданных сортов, сиротливо стоящие в саду поселенца. Сколь расточительна Америка со своими яблоками! И как только я раньше всего этого не замечал! Меньше двух веков назад в этой земле не было ни зернышка, а теперь они повсюду: у чумазых мальчишек с липкими подбородками, у светских господ, разъезжающих в каретах, у влюбленных, что встречаются в поле и, отшвырнув огрызки, переходят к делам поважнее. Они растут из свиного д–ма, из коровьего д–ма, из собачьего д–ма, из рыбьего д–ма, восходят из помета ворон под раскидистыми ветвями каштанов. Господи! Как только я не замечал! Казалось, если убрать все, что нас окружает, оставив лишь яблони, в пространстве меж ними проступят очертания мира.
Я вкусил от каждой. Две недели я вкушал; путь мой пролегал через Олбани и Гент, по холмам и долам между рек Гудзон и Коннектикут, и всюду я ходил по базарам, всюду расспрашивал озадаченных фермерских дочек о почве и сортах. Дважды обнаруживал я одинокое деревце с бесподобными плодами, дважды стучался в бедные лачуги, желая купить эту землю. Оба раза хозяева мне отказали. Да и с чего бы им доверять какому-то чужаку, путешествующему со слугой? Это их сад, их дерево, благословение, дарованное им в пользование. Их земля.
Американское дерево, выросшее в американской почве, – вот первое новшество, сулившее мне блестящий успех, второе же заключалось в том, чтобы наполнить карманы монетами и следовать за детьми. У них всегда было дерево, у детей, – пенек в глубине церковного кладбища, пустивший молодые побеги; серебристая дриада с извилистыми пальцами; длиннорукая матрона, согнувшаяся под тяжестью своей ноши в поле. Мне показывали исчерна-красные вытянутые плоды и крепкие жемчужно-белые шары, фрукты с толстой, как у картофеля, ржавой кожицей, но сладчайшей, хрусткой мякотью. А затем на горе, где лишь тонкая полоска ферм прорезала безлюдную глушь, курносый мальчишка, почуяв легкую наживу, выторговал двойную плату и длинной, петляющей тропой повел меня в дремучий лес.
Помню все, словно это было вчера! Для лошади заросли оказались непроходимы, и я оставил ее с Рамболдом. Стоял густой туман, каменистая, змеящаяся тропа потерялась на лугу и, столь же призрачная, возникла вновь среди вихров прилизанного ветром поля. За полем начиналась роща дубов и каштанов. Мы шли в гору, подъем был все круче, затем показалась хижина, и я мысленно приготовился к тому, что мне снова велят убираться с чужой земли. Или того хуже, подумал я, заметив, что тьма сгущается, а проводник мой перестал свистеть и погрузился в молчание. Должно быть, он догадался, что у чужака пенни еще полно, и завел меня в разбойничье логово. Все завершится здесь, в темном лесу, с пустыми карманами и тонким клинком в сердце.
Но я не отступался. Морось сменилась дождем. Маячивший впереди мальчишка стал едва различим, порой ориентиром мне служили лишь темные провалы в кустах. Наконец я добрался до хижины. Это была весьма странная постройка из камня и бревен с обвалившейся крышей. Стены поросли папоротником, по стропилам вились лианы, а среди обломков кровли на земле цвели астры. Только разглядывать все это было некогда: мальчишка вновь засвистел, и я последовал за ним на задний двор, где стояло дерево.
Земля под ним была в два слоя усыпана паданцами, они шипели и лопались под моими ногами. Нижние ветви пообчистили звери, в верхних гулял ветер. Омытое дождем яблоко, покачиваясь на ветке, манило меня к себе. Я протянул руку – оно выскользнуло из моих пальцев. Новый порыв ветра – яблоко взмыло вверх и застыло на миг, словно решая, достойный ли перед ним проситель, затем упало в мою ладонь.
На ярко-зеленом боку виднелись алые прожилки и лучики ржавчины. Румянец, словно менявший оттенок в хиреющем свете. Отведав сей плод, я почувствовал вкус не только языком, но и нёбом и ощутил чудесный аромат, легкий, точно лимонный цвет, а затем меня захлестнула вторая волна, сиропная сладость. Что это было? Яблоко, что же еще, яблоко по всем описаниям, и все же таких яблок я не пробовал никогда. Таких яблок не пробовал никто.
Erratum[11]: кроме мальчишки, этого маленького существа в сандалиях, притулившегося на камне и глядевшего на меня снизу вверх. Я готов был рыдать.
Лес словно бы наблюдал, как я тянусь за новым плодом. Я помедлил. Хижина стояла пустая, земля была усыпана гниющими паданцами, и все же меня не покидало чувство, будто я посягнул на чужое добро. Посему я взял лишь четыре яблока: одно для Констанции, по одному для Элис и Мэри и одно для Рамболда, который, вероятно, замерз и извелся от тревоги. Затем еще одно для себя.
К большаку я возвратился уже в кромешной тьме. Со шляпы моего слуги ручьями текла вода. С глупой улыбочкой я протянул ему яблоко и сказал: “Нашел”. Затем сунул руку в карман за новой монетой, но мальчишки и след простыл.
О ЗЕМЛЕ: ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ПОКУПКЕЗемля эта была дарована некоему преподобному Картеру, согласившемуся занять должность священника в близлежащем городке Оукфилде, – из пяти сотен акров за последние двадцать лет он расчистил чуть более дюжины. Как рад был он расстаться с лесистым склоном, возвышающимся над его фермой! Что до хижины, о прежних ее обитателях разузнать нам не удалось. Она вовсе не походила на жилища индейцев, населявших эти земли до того, как на них заявил права город, а у колонистов заведено строить из дерева. Не нашел я дом и на картах земельных участков – не считая горстки деревьев да причудливо нарисованной прогуливающейся пантеры, на месте хижины ничего не было. Иногда, пояснил регистратор актов, в лесу обнаруживаются заброшенные дома; здешняя земля тверда, не многим удается вести тут хозяйство. Впрочем, волноваться о чужих притязаниях нет нужды. В глазах Генерального совета Массачусетса законный владелец земли – священник, хижины не существует. Пролить свет на эту загадку, вероятно, смогли бы индейцы, но большинство из них давно оставили эти края.
Участок я купил, не покидая кабинета регистратора: высунув из густой бороды розовый язык и послюнив кончик пера, его преподобие мистер Картер с готовностью подписал документ. Засим я отправился обратно в Олбани и больше нигде не останавливался, не считая ночлега в шумном придорожном трактире, где я выпил с людьми, которых теперь мог по праву называть соседями.
К дому сестры я подъехал вечером на другой день. Не успев войти, я пустился в объяснения: дом, земля, дерево. Я уже все продумал. Мы начнем строительство в этом же месяце, а весной будем сажать.
Сестра поспешила за мной в гостиную:
– Но девочки…
О, это я решил много миль назад. Они поедут со мной – им будет лучше вдали от ухмыляющихся городских лавочников, от переселенцев, продвигающихся вглубь материка и соблазняющих девушек рассказами о жизни на фронтире. Мы возьмем с собой Рамболда и нашу старую служанку Энн.
Сестра покачала головой. Она ничего не понимает. Так далеко? Когда у меня есть земля подле Фокскилла, где я могу сажать все, что хочу?
– Не все!
И, пошарив в дорожной сумке, я достал яблоко.
– Это еще что?
Но она знала, что это, и возмущение ее только возросло.
Я улыбнулся.
– Ты купил пятьсот акров ради какой-то яблони. В Новой Англии.
– Отведай, – сказал я. В полумраке гостиной, без ветра и капель росы, подношение выглядело весьма скудным.
Она вновь покачала головой.
– Отведай! – воскликнул я.
По щеке ее покатилась слеза. И вправду мной овладела причуда!
– Отведай.
– Но вы же умрете с голоду. Вас растерзают волки, медведи.
– Отведай!
– Тогда оставь девочек со мной.
Как по команде, за спиной у меня послышался шорох, и, обернувшись, я увидел дочерей: широко раскрытыми глазами глядели они на пыльное видение, стоявшее перед их плачущей тетей.
– Видишь, ты их разбудил, – сказала Констанция. Затем твердо и властно: – Элис, Мэри, в постель.
Бедняжка! Она забыла, что офицер, воевавший с французами и индейцами, – это не просто солдат, но дипломат, приученный распознавать малейшую возможность заключить союз. Отрезанные от командиров, окруженные племенами с переменчивыми симпатиями, те из нас, кто вел свои батальоны на Квебек, вынуждены были искать помощи на каждом шагу – затем ли, чтобы преодолеть заснеженный перевал, или для того, чтобы обойти вражеский лагерь. В науке вступать в сговор, подкупать, находить лазейки нам не было равных.
Я достал из сумки последние два яблока. В воздух – одно, другое. Ножка над чашечкой.
– Элис, Мэри, ловите!
О НАШЕМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ ЗА ГОРОДПорой Страсть берет верх над Разумом. Если место благоприятно для яблони, это вовсе не значит, что оно будет в равной степени пригодно для человека. Поселенец, возводивший хижину в лесу, возводил ее из камней и бревен, у меня же были все современные строительные принадлежности. Чего мне не хватало, так это дороги. До большака, тянувшегося от Оукфилда до дома священника, была всего миля, зато какая! Я лишь смутно помнил, как добирался до хижины, так меня потрясло увиденное по прибытии, я позабыл даже, что для лошади тропа непроходима. Это, в свой черед, вызвало трудности с рабочей силой. Столько переселенцев стекалось в эти глухие края, что найти свободную пару рук было почти невозможно, и в конце концов пришлось мне довольствоваться пестрой командой, набранной на доках Олбани, – пятеро голландцев, все как на подбор с разбойничьими рожами, испанец, с яростной мстительностью вечно строгавший что-то ножом, и два негра, Сэм и Томас, о происхождении которых я не допытывался: шрамы, блестевшие в осеннем зное, поведали мне достаточно.
Сэм взял с собой жену, Бетси, и она стала у нас поваром и комендантом, без ее строгого надзора наш лагерь быстро погрузился бы в пьянство и разбой. Но никакой железный кулак не мог сдерживать этих бандитов вечно. К середине месяца один голландец заколол другого ножом, а испанец исчез со служанкой священника. По счастью, мне удалось нанять в Оукфилде плотника, и тот, приехав на место со своими людьми, ловко и споро начал возводить дом, пока мои оставшиеся работники расчищали землю и рыли колодец.
Плотника звали Джон Плотниксон – пути Господни неисповедимы, ибо происходил он из семьи потомственных башмачников. При виде хижины он пришел в замешательство, затем предложил разобрать ее, оставив лишь одну стену в качестве садовой ограды, но я и слышать о том не желал. История преследует того, кто ее не почитает. В Англии участок наш то и дело преподносил нам римские монеты. Разбирая завалы, мы заключили, что в хижине была всего одна комната, да еще спальня на чердаке. В комнате обнаружились обломки стола грубой работы, ржавая головка топора, а в пыльном сундуке в углу – ветхая Библия. На полях ее были мелкие надписи, из которых я мог различить лишь цитаты из Писания, свидетельствующие о том, что жил здесь не дикарь, но прилежный, богобоязненный христианин.
Джон Плотниксон уступил моему желанию оставить здешних призраков в покое и, как только мы починили крышу, оштукатурил стены старой хижины и положил полы, при этом одну стену все-таки пришлось убрать, чтобы соединить хижину с новым домом – простым жилищем с двумя этажами спереди и одним этажом сзади, с двускатной крышей и центральной трубой. Провидение и впрямь благоволило к нам: стоило Плотниксону привезти из Оукфилда стекла и вставить их в окна, как той же ночью ударили первые заморозки.
Дом сохранил свой облик и по сей день: ровный лимонно-желтый фасад, белые ставни, высокая черная дверь. Безупречная симметрия, не считая флигеля с левой стороны. У крыльца посадили мы вяз, который нынче достиг сорока футов в вышину и дает нам летом тень.
После этого я возвратился в Олбани – за мебелью и дочерями.