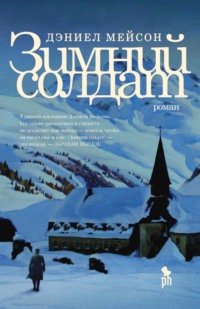Полная версия
Северный лес

Дэниел Мейсон
Северный лес
Посвящается Ариане и Селе
…Из обломков ковчега сложитьна Арарате костер.Натаниэль Готорн,“Американские записные книжки”Daniel Mason
Daniel Mason
North Woods
North Woods by Daniel Mason
Copyright © 2023 by Daniel Mason
Книга издана при содействии Fletcher & Company и Литературного агентства Эндрю Нюрнберга
© Светлана Арестова, перевод, 2024
© Виктор Сонькин, перевод стихов, 2024
© Андрей Бондаренко, 2024
© “Фантом Пресс”, издание, 2024
Глава 1

В этот край они попали в июньской свежести, убегая от тех, кто гнался за ними, от людей из деревни, пробираясь оленьими тропами по лесам и долинам, по зарослям и зыбким топям.
Быстро они бежали! От лугов и болот поднимался пар. Тернистые кусты рвали на них одежду, и она лохмотьями свисала с их плеч. Они продирались сквозь чащу, прятались в дуплах деревьев и медвежьих берлогах, палками проверяя, пусто ли внутри. Они убегали, словно это игра, словно они – похитители, скрывшиеся с добычей. Моей добычей, шептал он, касаясь ее губ.
Они смеялись от радости. Их не найти! Мрачные мужчины проходили мимо с аркебузами наготове, вглядываясь в кустарник, грязными пальцами набивая трубки табаком. Мир сомкнулся над ними. Англия в прошлом, колония в прошлом. Теперь их опекает Природа, сказал он, они вступили в другую Страну. Лежа под ним на подстилке из листьев в дупле старого дуба, она запрокинула голову, чтобы взглянуть на сапоги с ремешками и кожаные ножны, мелькавшие под червивыми сводами мира. Как близко, подумала она, кусая его за руку, чтобы сдержать восторг. Переплетясь, они наблюдали за гончими, встречались с ними взглядом, видели узнавание в собачьих глазах, в подрагивающих хвостах, а затем собаки двинулись дальше.
Они бежали. В открытом поле они прятались под тенью птичьей стаи, в реке – под серебристым неводом рыб. От их башмаков оторвались подошвы. Они примотали их тряпками, корой, а потом потеряли в трясине. Босиком бежали они по лесу, и в тенистых рощицах с капельками сока на стволах, когда они думали, что одни, он вытаскивал занозы из ее стоп. Они были молоды и могли бежать часами, а июнь преподносил им ягоды и оставленные без присмотра фермерские телеги. Они останавливались, чтобы есть, спать, воровать, кататься среди шелестящих полей золотарника. В укромных заводях он поднимал ее из воды, сажал на мшистый камень и пил реку, стекавшую по ее волосам и ногам.
Знает ли он, куда ведет их, спрашивала она, привлекая его к себе, пробуя на вкус его губы, а он всегда отвечал: дальше! На север двигались они, в северный лес и дальше к закату, что проходил по лесу пожаром, но горы вынуждали их сворачивать с пути, а топи замедляли их ход, так что они не знали, сколько лиг проделали за неделю. Да и какая разница? Реки уносили их к далеким, нагретым солнцем берегам. Колючие кусты раздвигались перед ними и смыкались за их спиной. Она стояла под водопадом, и талые потоки обрушивались ей на плечи, а он ходил по колено в воде и ловил чукучанов голыми руками. Потом он ждал ее, крылатый в сыром покрывале, которым укутывал ее, прежде чем уложить на землю.
Встретились они в церкви. Ей говорили о нем, ее предупреждали о нем, ходили слухи, будто в Англии он натворил бед, сел на корабль, только чтобы сбежать. Бежал из Плимута, бежал из Нью-Хейвена, поселился в хижине на окраине Спрингфилда. Говорили, что он безбожник, водится с дикарями, участвует в языческих обрядах в лесу. Дважды она ловила на себе его взгляд; один раз они встретились на дороге. На этом все, но этого было достаточно. Ей казалось, будто она от него произросла. Он глядел на нее всю проповедь, и она чувствовала, что краснеет. После он предложил ей встретиться на лугу, а на лугу предложил встретиться у реки. Она должна была выйти за Джона Стоуна, священника вдвое старше ее, чья первая жена умерла на сносях. Умерла на сносях от побоев, сказала ее сестра, от нанесенных увечий. На берегу, под взглядом белых цапель, возлюбленный взял ее за руку, дал обещания, перекатил травинку во рту. Она прожила в этой деревне семь лет. Той ночью они сбежали, а комета в небе словно бы указала им путь.
Из огорода повитухи – три картофелины. Галеты из кармана спящего пастуха. Курицу с фермы поселенцев, курицу-несушку, которую он носил под мышкой. Мой эльф, называл он возлюбленную под покровом тьмы, и она заглядывала ему в глаза. Сумасшедший, думала она, ходит в одних лохмотьях, с топором и кудахчущей птицей. А что за речи он ведет! О Флоре, царстве жабы и моллюска, о созвездиях светлячков, о владычестве волка и медведя, о цветущей плесени. И о духах, что витают в лесу, вокруг них, повсюду, – о духах птиц и рыб, каждой ели и каждого жука.
Она смеялась: как же им хватит места? Тогда рыб будет больше, чем воды. Птиц больше, чем неба. По тысяче ангелов на каждой травинке.
Тише, сказал он, останавливая ее поцелуем, не то они обидятся: енот, червь, жаба, блуждающий болотный огонек.
Они бежали. Поженились они в тени ветвей, произнесли обеты у подножия дуба. На стволах деревьев – грибы величиной с седло. Свидетелями им были серые птицы, красные змеи, рыжие тритоны. Цикады осыпали их цветами. От папоротников, по которым они ступали, поднимался запах сена. Мир наполняли шум, жужжание, рев.
Они бежали. Последние фермы позади, теперь только лес. Они шли индейскими тропами через рощи, опустошенные пожаром, под зелеными сводами, высокими, как звезды. В жару они вброд переходили реки, ее рука в его руке, курица у него на плече. Слюда серебрила ее стопы. Стрекозы садились ей на шею. В ветвях деревьев, наверху, – белки-летяги, в илистом песке – крупные отпечатки кошачьих лап. Иногда он останавливался и показывал ей следы, оставленные людьми. Друзья, говорил он, а еще говорил, что знает язык народа по эту сторону горы. Но где же этот народ, недоумевала она. И вглядывалась в зелень, потому что ей было страшно – и одиноко, – и она не знала, что хуже.
А потом, как-то утром, они проснулись среди сосновых иголок, и он объявил, что погоня закончилась. Он понял это по тишине, по воздуху, по чистоте летнего ветерка. Этот край принял их. В колонии два имени в учетной книге перечеркнули двумя черными чертами. Детям пригрозили поркой, если они упомянут о беглецах.
В долину они пришли на седьмой день. Над ними – гора. Оленья тропа шла через луг, взбиралась на зеленый холм, пересекала темные останки недавнего костра. Сбегала вдоль ручья к окаймленному ситником пруду. По ту сторону холма – поляна, выточенные бобрами пни и бледные побеги, растущие из черных углей.
Здесь, сказал он.
Над пепелищем порхали певчие птицы. Они сбросили лохмотья, искупались, легли спать. Все было таким ясным, таким чистым. Он достал из мешочка семена тыквы и кукурузы, кусочки картофеля. Зашагал по склону, курица следовала за ним по пятам. У ручья он нашел большой плоский камень, поддел его, отнес на поляну и бережно положил на землю. Здесь.
“Девы ночи”, письмо неизвестной

7 июля среди ночи в деревню пришли дикари, и было их много. Я не спала, я кормила мое дитя, и вдруг загорелся частокол и раздались выстрелы и крики. Проснулся мой муж и велел, чтобы я спряталась вместе с малюткой. А сам – в ночной сорочке – быстро задвинул засов, но они выбили дверь, и повалили его наземь, и убили. Потом вошел еще один дикарь и велел идти за ним следом, но так велик был мой страх, что я не могла пошевелиться, хотя дом был охвачен огнем и горячие угли падали со стропил. Уж лучше умереть вместе с мужем, чем идти с этими нелюдями, подумала я, но дикарь схватил меня и вывел из дома. Из-за пожаров было светло как днем. Они напали на нас, точно волки на овец, я увидала, как убивают моих родных и соседей, брата мужа зарезали у меня на глазах, моего двоюродного брата застрелили, а после вспороли ему живот. Во дворе валялись стулья, и вилы, и другие предметы, которыми отбивались люди. Вдруг дикарей обуял страх, они стали кликать друг друга и с воплями побежали к пробоине в частоколе. Меня погнали туда же, хотя на мне не было башмаков. Рядом бежали мои соседи, кто с детьми на руках, кто в одной простыне. Когда мы остановились, я обернулась и увидала, что горит вся деревня, и в свете пламени – заплаканные лица моих соседей. Вскоре к нам подошли дикари и велели идти за ними. Они повели нас сквозь чащу, на двадцать пленников было шестеро индейцев, но никто из нас не пытался бежать, сердца наши полнились скорбью, а лес был диким и суровым. Рядом со мной шла моя двоюродная сестра и горько плакала, она сказала, что никого не осталось в живых, они убили моего отца, убили мою мать, убили мою сестру, она сама видела, как всех их зарубили топором. Я молила Господа забрать и меня, но я чем-то прогневала Его, и Он пожелал, чтобы я страдала дольше. С каждым шагом я удалялась от дома и погружалась в лесную тьму. Потом стало светать, и нам велели идти быстрей, пока нас никто не увидел. Я была очень слаба и хотела прилечь, но отстающих били, и я двигалась дальше, прикладывая моего малютку к груди. После полудня мы сделали привал, и, видя, что многие из нас необуты, дикари надрали бересты и смастерили нам башмаки. Когда наступила ночь, нас связали по рукам и ногам и привязали друг к другу, но я не могла сомкнуть глаз, ибо все время думала о своих печалях. Моя сестра молилась, чтобы кто-нибудь спас нас, сокрушил беззаконному челюсти и исторгнул похищенное из его зубов[1]. Я тоже пыталась молиться, но лишь рыдания вырывались из моей груди. Так прошла первая ночь, а утром, когда мы двинулись в путь, ко мне подошел Дж., мой сосед, давай сбежим от них, сказал он, какая судьба может быть хуже этой? Но я не решилась, и слава Богу, ибо в полдень раздались крики и я увидела, как Дж. несется через кусты, а индейцы – за ним следом, и нам велели остановиться и ждать, и все мы молились, чтобы ему удалось сбежать и привести подмогу или хотя бы спастись самому. День был теплый, но мы дрожали от холода, и, заметив это, один из дикарей сказал: подумайте! Из-за кого вы теперь страдаете? Из-за кого вы стоите на месте? Как только он произнес это, появился один из тех, кто погнался за моим соседом, вытер о мох кровавый топор и сказал: вам урок. Мы пошли дальше, и настала ночь, это была наша вторая ночевка в грязи, а утром я увидала, что мой малютка заболел и не берет грудь, и сперва подумала, что он умирает, но он был теплый, когда я прижала его к себе. И так я тревожилась за свое дитя, что не чувствовала собственной боли, и шла, словно во сне, и не раз спотыкалась и падала. Друзья помогали мне, они знали, какая меня ждет судьба, если я отстану. Это было на третий день, но я мало что помню, к вечеру я совсем ослабла, у меня начался жар, и всю ночь я кашляла. Утром ко мне подошел мой похититель, и я не сомневалась, что он меня убьет, но, видно, жажда крови у него поугасла, он подошел к другому индейцу, ехавшему верхом, и начал с ним совещаться, и вскоре тот, второй, спешился и они посадили на лошадь меня. Не знаю, почему он проявил ко мне сострадание, быть может, пленников стало мало и они боялись, что не получат хорошего выкупа. Так шли мы до наступления ночи, затем, у каменного выступа, все остановились, но мой похититель сказал: ты со мной – и повел мою лошадь по узкой тропинке. Я заплакала, и дикарь спросил по-английски, чего ты плачешь, а я ему – я хочу вернуться к своим людям, а он мне – они больше не твои люди. И тут меня охватил такой ужас, что я готова была нарочно его ослушаться и убежать, чтобы он убил меня и мое дитя, раз уж я все равно никогда не увижу дома. С горечью вспомнила я слова Иеремии: но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли сей[2]. Тут мы вышли на поляну, и я увидела хижину из камней и бревен и курицу в саду. Индеец свистнул, и дверь отворилась, и на пороге показалась очень странная старуха, одежды на ней были индейские, юбки и одеяла, лицом она была англичанка, а говорила и по-английски, и на языке дикарей. Потолковав о чем-то со старухой, индеец оставил меня с ней. Пойдем, сказала она и повела меня в дом. Это был маленький дом, всего одна комната, и внутри был очаг, и она подбросила в огонь поленьев, а потом раздела меня и завернула с моим малюткой в одеяло. Она развесила у огня мою мокрую одежду и принесла бульона, и я немного попила, и потом она дала бульона малютке, после нескольких глотков он заплакал, и она сказала: скорее дай ему грудь. Малютка взял ее, и я ощутила такое облегчение, что на миг забыла о своей печальной участи. Когда я покормила его, старуха снова дала мне бульона, и хотя он пах дурно, я так проголодалась, что готова была пить из ложки этой приятельницы дикарей. Потом я уснула, а когда проснулась – среди ночи, с жаром, – мне стало казаться, что старуха задумала недоброе. Эта мысль все больше овладевала мною, и вскоре я совершенно утратила здравый смысл и уверилась, что она убьет меня и мое дитя или отдаст его Д–у. Я встала с постели и взяла кочергу, что валялась у огня, и склонилась над демоницей, и убила бы ее, но в эту минуту разревелся мой малютка. Я пошла кормить его, но кочергу из рук не выпускала, старуха это заметила, хотя в комнате было темно, и сказала: полно, глупое дитя, я не ведьма – и достала с полки книгу, это была Библия. И назвала свои имена – христианское и индейское, ибо они с мужем бежали из колонии много лет назад и поселились в этой Богом забытой глуши, а потом его не стало и она вышла за индейца, обращенного в нашу веру, но потом его тоже не стало. Ее имя было мне знакомо, и имя ее первого мужа, у нас часто шептались об этих безбожниках, хотя я думала, что они давно мертвы. И ты стала его женой перед Богом? – спросила я, ибо на пальце у нее, как у язычницы, было серебряное кольцо. Или этот амулет для тебя выковал Д–л? Ты больна, сказала она, а я ей – грешницу я всегда узнаю, а она мне – лишь Господь знает, у кого душа чиста, а я – Господь наделил меня способностью видеть. Стало быть, у тебя на глазах чешуя, сказала она. В темноте она незаметно пересекла комнату и села рядом со мной. Ты потребуешь от нас слов песней?[3] – спросила я. Старуха положила мне на лоб ладонь и сказала, что я в бреду. И тут я поняла, что она меня отравила. Я выбежала из дома, нагая, но тут же упала, и она быстро меня догнала. Господь с тобой, воскликнула она. Собралась бежать, а ребенка оставила. Пойдем! После этого горячка разыгралась вовсю, и днями напролет я металась в бреду, а когда пришла в себя, старуха сказала, что минуло уже две недели. Сначала я не поверила, но, взяв на руки моего малютку, увидела, как он подрос. Пока ты болела, сказала она, я прикладывала его к твоей груди. Малютка был здоров и улыбался, но я слыхала о подкидышах из глины Д–а и, как только она вышла из комнаты, раздела его и стала проверять, нет ли на нем швов. В доме было холодно, и он заплакал, и снова пришла старуха, полно мучить его, сказала она. Тогда я попросила ее помолиться со мной, и она принесла Библию, и на словах: дни человека – как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его[4], – на этих словах я разрыдалась. Она наклонилась ко мне, и я увидела у нее на шее бусы из костей и железа и чуть было не воскликнула: сними с себя украшения свои![5] Но молитва меня смягчила. Я спросила: дикарь, забравший меня, твой друг? И она ответила: индеец, спасший тебя, мой друг. В ярости я воскликнула: и тот, кто убил моего отца, твой друг, и тот, кто убил мою сестру? На что она сказала: думаешь, у него самого не убили отца и сестру? И я ненавидела ее, но больше она ничего не прибавила, она вышла во двор, и послышались удары топора, а потом вернулась и сказала: ты только бульон пить умеешь? Тогда я пошла и принесла в дом дрова. Потом она показала мне свое хозяйство, чердак, где она хранила вяленое мясо, кукурузу и муку из желудей. В хижине стояли корзины для рыбной ловли и силки, мы пошли в лес, и она научила меня их ставить. Когда стемнело, мы вернулись домой и сели ужинать. И я вспомнила, что в последний раз садилась к столу вместе с родными, а теперь их нет, и горько заплакала, а старуха все молчала, и тогда я сказала: неужели ты не утешишь меня? И она ответила: я не могу дать утешение, которое ты ищешь. С тяжелым сердцем я уснула, но утром снова была работа, хотя свое горе я не забыла. Вскоре прошел месяц с моего прибытия, и я знала, что мой похититель вот-вот вернется. И, хотя я больше не боялась за свою жизнь, я боялась, что он заставит меня жить с дикарями и стать врагом моих людей. Когда я спросила у хозяйки, что со мной станет, она ответила, что не знает, быть может, меня обменяют на одного из них, ведь на каждого белого пленника приходится сотня индейцев, которых забрали из дома. Окрепнув, я снова задумалась о побеге, но боялась, что меня опять поймают и будет еще хуже. В огороде росли бобы, и тыква, и кукуруза, хорошо росли, потому что раньше там была бобровая запруда. Моя хозяйка научила меня ставить силки на кролика и отличать съедобные грибы от ядовитых, особенно она предостерегала меня против грибов, которые называла “девами ночи”. Иногда мы разговаривали и о других предметах. Как-то я спросила, почему, раз ей так дороги индейцы, она не живет с людьми своего мужа. Она ответила, что зимой иногда гостит у них, но большинство из них умерли от заразы, к тому же здесь хорошая земля и здесь ее дом. Потом она стала говорить свободнее – об обрядах и плясках и о диких зверях. Я сказала, что это речи Д–а, и тогда она отвела меня ночью во двор и спросила: неужели ты не слышишь? Но, кроме леса, вокруг ничего не было, так я ей и ответила. Нет, сказала она, послушай, и мы притихли, и вдруг я услышала поступь, и, Бог мне свидетель, никакими словами этого не описать. Сердце мое сжалось от ужаса, но хозяйка успокоила меня. Разве не сказал Господь: Мои все звери в лесу?[6] Мы вернулись в дом, и прошло, быть может, три недели, и дни были похожи один на другой, и мы обе гадали, что случилось с моим похитителем, как вдруг нагрянули гости, и – о чудо! – это были не индейцы, но три английских разведчика, и как же они удивились, увидев меня с моим малышом, и как же я обрадовалась. Я никого из них не знала, зато они обо мне слыхали, некоторых пленных из нашей деревни выкупили, и те рассказали, что меня увезли. Мне было больно вспоминать о родных и о моем дорогом муже, и я заплакала. Что до моей хозяйки, то я боялась, как бы ее не убили, и сразу сказала, что она христианка, бывшая замужем за обращенным индейцем, и продолжает нести свет в эти дремучие леса. Я заметила, что бусы и кольцо она спрятала в карман. Мы пригласили англичан в дом и подали им еды, и один из них попросил меня сесть рядом, и достал из кармана яблоко, и предложил его мне. Я рассмеялась и сказала: кто я такая, Ева? – очень уж мне было страшно. Ночью мы с моей хозяйкой легли на чердаке, и она закрыла люк и загородила его досками, чтобы все было пристойно. Утром, до восхода солнца, мужчины ушли и вернулись только вечером, и все трое над чем-то смеялись, и я спросила, что их так рассмешило. Тогда тот, который протянул мне яблоко, полез в сумку и достал завернутую в листья отрубленную руку, маленькую, как у ребенка. Завтра, сказал он, они приведут с собой еще солдат, мальчишка выдал местоположение деревни, и они отомстят за убийство наших людей. Пора было готовить ужин, и моя хозяйка пошла в огород, и я заметила, что она плачет. Вернувшись, она не дала мне помочь ей, но отослала наверх. Вскоре она поднялась ко мне и снова закрыла люк. В руках у нее был топор. Мужчины ужинали, и она сказала: пойми, то, что сейчас произойдет, должно произойти, чтобы прекратилось кровопролитие. Я в страхе посмотрела на нее, и она добавила: это чтобы остановить зло. Я заплакала и кивнула, хотя ничего не понимала, и она снова надела амулеты и сказала: так было нужно, и тут снизу раздался стон, и ножки стула проскребли по полу, и разбились тарелки, и кого-то начало рвать. Снова стоны, кто-то из них закричал, что их отравили, а потом заскрипела лестница и в дверцу люка начали колотить. Мы старались не дать им прорваться, но они пробили дверцу прикладами. Моя хозяйка сразила одного топором, но другой тут же засадил пулю в ее доброе сердце. Я схватила топор, он пошел на меня, и, Бог свидетель, я просто пыталась защитить мое дитя. Потом я взяла мушкет и пошла вниз, где третий мужчина в муках выполз во двор. Я уж было решила, что он умер, но он бросился на меня, и Господь придал твердости моей руке. Я заплакала, и дитя мое заплакало, но я боялась, что, если не поторопиться, придут другие и их найдут. Я закрепила малютку у себя на спине, и взяла лопату, и взошла на холм рядом с домом, и принялась копать, и копала до рассвета, а потом по высокой мокрой траве потащила тела. Там я их и похоронила, мужчин вместе, а мою хозяйку ближе к дому, а потом помолилась за их души, чтобы они получили прощение за свои грехи. Я клянусь, что история моя правдива, и излагаю эти события, потому что должна уйти и не в силах больше хранить тайну. Пусть тот, кто найдет это письмо, узнает, что произошло здесь, в колонии Массачусетс, в столь неспокойную пору, от той, которая недолгое время называла это место домом.
Глава 2

На исходе августа женщина закутывает ребенка в одеяло, закрывает дверь хижины, выходит на опушку и, бросив последний взгляд на дом, исчезает в лесу. Олени поднимают головы над кустами золотарника и глядят ей вслед, затем робко подбираются к огороду. С оглушительным рокотом над долиной проносится стая странствующих голубей, затягивая небо темной завесой.
Идут дни. В теплых закутках каменной кладки прячутся змеи. Ненадолго хижина становится прибежищем стаи волков, их детеныши гоняются за белыми бабочками у пруда. Тыквы в огороде раздуваются на грозовых ливнях, по стеблям кукурузы вьется фасоль, початки спеют. На качающиеся россыпи посконника садятся бабочки, из коробочек ваточника лезет пух.
На холме, в рыхлой земле, лежат тела старухи и трех мужчин, и в животе мужчины, протянувшего яблоко женщине с ребенком, покоятся три яблочных семечка.
Никто не приходит. Ни солдаты. Ни индеец, что привел женщину сюда. Фасоль жухнет на жаре, тыква гниет, кукуруза гибнет от ржавчины.
Цвета меняются. С вершины склона спускается желтый, закрадывается в прожилки граба, краснеют клены и дубы, лимонные листья калины становятся пурпурными. Они падают в ручей, разделяющий склон, точно прореха в ткани земли.
Плесень и черви находят тела старухи и трех мужчин.
Идет дождь. Стучит по неопавшим листьям, стекает по раскидистым ветвям вязов и дубов, пенится у подножия тсуг. Впитывается в рыхлую землю вокруг тел, почва раздувается от влаги, склон сползает, вынося на поверхность тело мужчины, протянувшего яблоко женщине. Новый дождь обнажает его голову и плечи, и со стороны кажется, будто он пытается вылезти из могилы.
Крысы, мухи, птицы принимаются за работу.
Наступает зима. Выпадает снег, покрывает кости мужчины, протянувшего яблоко женщине, погребает его по самую макушку. По ледяным коридорам в сугробах снуют лесные мыши; полевки обнюхивают замерзшее насмерть потомство; в лощинах раздаются смешки ласок.
Проходят месяцы, и теплой ветреной ночью снова идет дождь, смывая снежный покров.
Возвращаются волки, детеныши долговязые и тощие после зимы. В весенней хляби они находят останки мужчины, протянувшего яблоко женщине, танцуют вокруг них, лают и подтаскивают ближе к вершине холма.
Теплеет, вода уже не застывает в отпечатках оленьих копыт. Там, где раньше был желудок мужчины, протянувшего яблоко женщине, одно из яблочных семян, покоившееся в убежище из сломанных ребер, разрывает кожуру, пускает в землю корень и расправляет бледно-зеленые семядоли. Появляется побег, он крепнет, тянется к свету, бережно раздвигает пятое и шестое ребра, некогда оберегавшие жалкое сердце мертвеца.
Побег растет все лето. К исходу августа на нем восемнадцать листков, а высотой он со взрослую рысь.
Осгудское чудо, или Воспоминания садовода
Моим любезным дочерям вверяю я сие письмо – НАПУТСТВИЕ садовода, собравшегося на войну.

Во всей прелести вновь наступила осень, а у нас беда. Паря над лесом, видит ястребица крошечные шеренги солдат. Завтра должен оставить я мою ферму, мои сады, ваше милое общество. Четырнадцать лет была здесь наша Аркадия. Я смотрел, как вы растете бок о бок с яблоневыми деревьями. Некогда бросив военное дело и посвятив себя саду, нынче я вынужден покинуть объятья Помоны и вновь отправиться на Марсово поле.