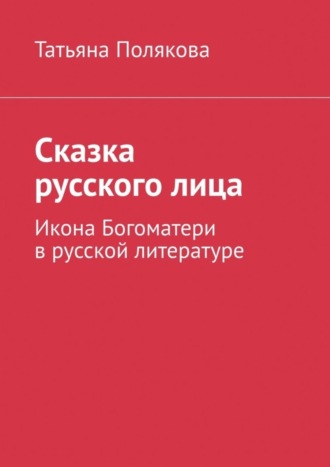
Полная версия
Сказка русского лица. Икона Богоматери в русской литературе
– Опять я одна осталась, бедная моя головушка, бедная – несчастная…
И долго она так голосила, и долго еще Ольге и Саше видно было, как она, стоя на коленях, все кланялась кому – то в сторону, обхватив руками голову, и над ней летали грачи».
Человек сам отвечает за свою душу. И никто с него этой ответственности не снимает. Если ты черств, корыстолюбив, завистлив, нечестен, жесток, то сам же от этого и маешься, и жизнь не в радость, и труд обуза, и не приносит он желаемых плодов, ведь не родится же у злобствующей старухи капуста, не хватает хлеба до нового урожая с поля, засеянного кое – как, пьяными кривыми бороздами. Но правда и то, что мы все – люди, живущие на земле, – дети единой Матери, и в своей жизни все родственно касаемся друг друга. И государство – наша семья. Если в семье нет ладу – поля зарастают, не родит земля, и матери, спасая своих детей, бегут от злобы и насилия в Египет ли, Америку, Германию…
Есть одно место в Африке, где отдыхала по пути в Египет Мария с Младенцем. Там не стоит памятник. Там просто растет старое дерево сикомора. Таинственная знойная, полная тайн Африка, ее ужасная и чудная история с детства тянула к себе русского поэта Николая Гумилева. Свою мальчишескую мечту он осуществил. Не раз ездил в Африку, написал о ней прекрасные стихи и прозу. Гимном Африке звучит «Вступление» к сборнику «Шатер».
15 февраля отмечается Сретенье. Само слово «сретение» означает «встреча». После февральских вьюг наступает тихая солнечная погода. Ветер утихает. Иногда даже каплет с крыш. В это время зима встречается с весной. На сороковой день после Рождества Христова отмечается Сретение. По законам древних иудеев всякого первенца в семье надлежало нести в храм, чтобы там отдать жертву Богу, которая считалась как бы выкупом за ребенка. Когда родился Христос, Мария тоже понесла Его в храм, за ней шел Иосиф с двумя горлицами, предназначенными в символическую жертву. При входе в храм их встретил святой Симеон, древний старец, который никак не мог умереть, так как ему было сказано от Бога, что не умрет он, не увидев Мессию, Спасителя людей. Увидев Марию с младенцем, Симеон был взволнован, он протянул к ним руки, бережно взял Христа и, обращаясь к Богу, воскликнул: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видесте очи мои спасение Твое…» (Лк.11,29 – 30). Встреча младенчества со старостью всегда волнительна. Это встреча поколений людей. И как прекрасно, когда старость благословляет юность, угадывая и желая видеть в ней лучшее, что послужит спасению всех людей, их совершенствованию, и не ошибается. Слово « сретенье» по своему звучанию не просто «встреча», но тесное «сплетение» и «взаимодействие», дружеское участие и братание. Симеона, который много размышлял о спасении человечества, не осенила ли мысль: мать с младенцем на руках – зрелище, способное смягчить подчас самых жестокосердных. Вот спасение мира, божественный дар продолжения человеческого рода, его бессмертия и совершенствования. Как же нужно беречь и лелеять этот дар! Евангелист Лука, которому принадлежит в евангелии рассказ о Сретении, в других евангелиях его нет, создавая первые иконы, символом христианства выбрал изображение Матери с Младенцем на руках.
Кроме Иосифа, Марии с Христом и Симеона, на иконе Сретения изображается пророчица Анна. Престарелая вдовица лет восьмидесяти четырех, она прожила с мужем только семь лет и потом вела жизнь богоугодную, не отходя от храма и служа Богу день и ночь постом и молитвою. Объятая духом предвиденья, присоединилась и она к Симеону и пророчествовала о принесенном в храм Младенце как о Спасителе людей.
Стихотворение И. Бродского «Сретенье» посвящено Анне Ахматовой, именины которой приходились на 15 февраля. Признавая замечаемый другими присущий ей пророческий дар, который сама в себе ощущала, Ахматова говорила о себе: «Я Анна Сретенская». Бродский пишет о том, как Мария впервые внесла дитя в церковь. Не торжествующей, во время многолюдного богослужения. Тайком, незаметно, когда храм опустел, боясь взора небес и взглядов людей, которые, как это происходит в «Anno Domini», «нимб заменяют ореолом лжи, а непорочное зачатье – сплетней, фигурой умолчанья об отце».
В изображении Бродского отсутствует Иосиф – обручник. О нем не просто не говорится, это подчеркивается. Мария одна приносит младенца в храм, укрывается в нем, как в замершем лесу, спасает свое дитя со светящимся нимбом над головой. Этот мотив свечения поэт повторит в стихотворении «Бегство в Египет».
И в этом стихотворении Иосиф показан лишь как случайный попутчик: «погонщик возник неизвестно откуда». Мария одна выслушивает слова поддержки Симеона, его пророческую речь, обращенную к Богу: «Ты с миром, Господь, отпускаешь меня, затем, что глаза мои видели это дитя: он – Твое продолженье и света, источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем». Она внимает прорицанию Симеона о своем будущем, о том, что позже станет видеть в своих снах («Сон Богородицы»), что изображено на иконах «Симеоново проречение», «Умягчение злых сердец», «Семистрельная», на иконе «Страстная», где ангелы показывают Марии орудия пытки Христа. Тем же оружием будет ранена ее душа. Но эта рана, «как некое око» даст ей возможность видеть то, что глубоко скрыто в сердцах людей.
Простые праведные люди Симеон и Анна, как прежде Иосиф, приняли и обласкали младенца как дар небес, не возведя хулы, ни подозрения на его мать, презрев блудливые толки о тайне его рождении, жестокие законы побивания камнями женщины, родившей сына от отца, которого никто не видел и в которого можно было только верить. И они поверили. Вера и доброта оказались спасительны.
Нет ничего прекраснее в мире счастливой матери с младенцем на руках, пишет Т. Г. Шевченко
И доля счастливой матери непроста. Но ей все любо, все легко. «Счастливая!… И пусть года проходят, И дети взрослые уходят, кто в ту, кто в эту сторону: на заработки, на войну. И ты осталась сиротою.» И дома никого с тобою уж больше не осталось. Плеч укутать нечем. Стынет печь, нетопленная по неделям, «И встать не можешь ты с постели».
Счастливая мать, и ей хочется поклониться, склонить перед нею голову. Но перед святым образом Богоматери находят поддержку и понимание и другие матери, потому что Ее судьба могла бы быть похожей и в чем-то, несомненно, похожа на судьбу той, другой.
Очень часто люди беспощадны к такой матери, позор преследует ее всю жизнь.
А ведь и она в трудах и поте растит, любит свое дитя. И как ей нужна поддержка, участие, доброта. Обидеть, растоптать, осудить ее легко. Но кто сможет не дать ей пасть духом и не просто посочувствует, а поможет?
Тарас Шевченко Собрание сочинений в четырех томах. Т.2 —М.,1977,с.205 – 207
Евангельский сюжет о рождении Христа глубоко волновал Шевченко. В 1859 году в Петербурге он заканчивает поэму « Мария», которую, по мнению Ивана Франко, « следует отнести к лучшим, наиболее глубоко задуманным и гармонически завершенным поэмам Шевченко». В свою очередь, церковь не приняла реалистического осмысления евангельского образа, негодовала на поэта за искажение евангельского повествования.
Чистая душой девушка – сирота живет в батрачках у плотника иль бочара Иосифа, который относится к ней как к родному дитяти, любуясь ею, жалея сироту, на берегу широкого озера Тивериада. Она прядет, пасет коз, заботится об Иосифе, мечтает своим трудом поддержать его старость. Мир вокруг, как божий сад, радует ее и волнует: и « божий пруд» Тивериада, и блистающая гора Фавор. Из Назарета к ним заходит переночевать юноша в белеющем, как снег, хитоне высокий, стройный и босой.
Юноша идет возвестить Мессию. Он из секты ессеев. Секта ессеев, по мнению ученых, подтвержденному рукописями, найденными у Мертвого моря, прообраз христианства. Его речи увлекают и западают в сердце Марии. Они проводят вместе ночь, и он уходит, обещая скоро возвратиться. Но проходят дни, а его все нет и нет. Потом приходит весть, что в Иерусалиме кого – то казнили мечом или распяли на кресте за проповеди о мессии. Иосиф предлагает Марии жениться на ней и покинуть родные места, объясняя:
Приходит приказ от кесаря идти на перепись в Вифлеем. Не доходя до Вифлеема, они видят в небе косматую звезду – комету.
На рассвете в Вифлееме уже римский легион избивал младенцев, Мария же не хоронилась. Пастухи сберегли ее, скрыли, кружным путем ночью провели на путь Мемфисский и не поскупились дать дойную ослицу.
Дерзость Шевченко, таким образом, состояла в том, что он снял с евангельского сюжета мистический налет, видоизменил сюжет. Но ведь он и не собирался перекладывать евангелие стихами. Поэт – реалист, он писал не о том, «как было», т.е. так, как это записано в евангелии, но « как могло быть», «как обыкновенно бывает» в жизни. Следуя логике жизни в деталях, он добивается удивительной достоверности, в некоторых случаях эта логика быта, нравов, ситуации позволяет нам лучше понять само евангелие, является прекрасным комментарием к нему. Конечно, введение в поэму юноши – ессея – очень серьезный и ответственный шаг Шевченко. С одной стороны, это помогло ярче высветить человеческую природу Христа, трагичность судьбы Марии. С другой стороны, при таком повороте легко впасть в святотатство, оскорбить чувства верующих, снизить величие образа, впасть в бытовизм. Всего этого Шевченко счастливо избежал. В поэме рассказывается, как святое семейство живет в Египте, как возвращается в Назарет в заросший терновником и бурьяном дом, как растут и взрослеют Христос и Иоанн Креститель, как учатся, как ведет Христос – отрок спор с мудрецами в синагоге:
Иоанн и Христос «…тернистые пути избрали, вышедши из школы, освобожденья путь тяжелый, во имя Божьего глагола, не устрашась, на крест пойти». Мария следует за Христом всюду. Она слушает его проповеди, зашивает ему хитон, поддерживает его, когда он устанет. Христос в поэме освещен светом горячей материнской любви.
После распятия Христа Мария остается в одиночестве. Иоанн Креститель был убит еще до распятия, умер Иосиф. Ученики Христа ушли от пыток в тайники. Мария собирает их, дыханьем огненного слова развеивает их малодушие и страх, под ее влиянием они несут по всем концам земли любовь и правду Христа. Она же умирает в нищете.
Все это воспроизведено Шевченко так, что мы безусловно верим в достоверность рассказанного и безусловно убеждаемся: такая женщина могла стать матерью мессии. Образ Марии у Шевченко овеян теплотой и любовью, в то же время в нем нет излишнего елея, слезливой сентиментальности, в которую нередко впадают пишущие о ней.
Следует сказать также о духе демократизма, пронизывающем поэму. На призыв о добре и милосердии откликаются простые люди, а не цари – ироды. Так откликнулись на этот призыв Симеон и Анна, пастухи возле Вифлеема. Евангелие ведь тоже проникнуто духом демократизма, оно обращено ко всем людям на земле без различия их чинов и положений. История Христа и Марии – это испытание людей на способность любви и милосердия. Оно, это испытание, продолжается во все времена.
Но как труден этот путь пробуждения милосердия в людях, как странно и в то же время закономерно, что на милосердие оказывается часто более способен тот, кто задавлен жизнью, унижен, бесправен, чем те, кто благополучен и доволен, хотя, по логике, казалось бы, должно быть наоборот. История Христа и Богородицы всегда тревожит душу. Не пройти мимо труждающегося и обремененного, не пнуть его ногой в раздражении, что он мрачит твое довольство и покой души, марает твои чистые одежды, чтобы он покатился дальше и сгиб поскорее, раз не может устроить свою жизнь так, как ты. Можно ли этому научить всех людей? Как это сделать? И нужно ли это делать, возможно ли это.
И надо ли себя тревожить несовершенством мира и тем, что кому-то хуже, чем тебе? Для чего ходишь ты, Богородица, со своим Сыном по земле, встречая насмешки и хулу? Уже язвительно богородицами стали называть падших женщин. Ты, чистая и высокая, зачем идешь в черные и черствые города. Не страшно ли тебе, не боишься ли загрязниться человеческой грязью на своем пути? Александр Блок в холодный петербургский вечер увидел в « вечерней богородице» другой лик – той, что не боится посетить «страшный мир»:
Зрение у людей устроено по -разному. Пошляк в Богородице увидит падшую женщину. Человек, Поэт в падшей женщине увидел Богородицу. Кто из них лучше видит?
На иконах и фресках соборов изображаются разные эпизоды из жизни Марии. Вот Ее встреча с Елизаветой. Получив Благовещение от архангела Гавриила, Мария отправилась к Елизавете, которая была родной сестрой Ее матери. Марии нужно было кому-то открыться, нужно было родственное участие, совет, поддержка. Все это она получила у Елизаветы, у которой прожила три месяца. Елизавета сама ждала ребенка. Рожденный ею ребенок – Иоанн Креститель.
Вот « Брак в Канне Галилейской», где Иисус совершает чудо по просьбе своей Матери.
Фрески Рождественского собора Ферапонтова монастыря на Вологодчине, выполненные Дионисием с его сыновьями (1502 г.), дают ощущение удивительной гармонии, согласия, умиротворенности, несуетности, Этому соответствует музыка жестов, движений, поз, нежный, нездешний перелив голубого цвета, символизирующего веру, благоговение. Это благостные видения, какие возникают в «тонком сне», когда нередко являются человеку его лучшие мечтания. Господствующее настроение живописи Дионисия кротко – радостное: «иго мое – благо, и бремя мое – легко».
Само Распятие у Дионисия на первый план выдвигает не страдание, а торжество духа, попрание смерти. Смерти нет для человека, достойно прожившего свою жизнь. « Смерть, где твое жало?» Есть вечная жизнь человеческого духа и вечное Вознесение.
Но есть человеческая боль, есть боль Матери, которая больнее всякой боли, которую нельзя измерить. Ведь она, Мать, дающая жизнь всему живому, как никто, знает цену жизни и любви. Что чувствует Она, когда распинают Ее Сына, не распинают ли и выставляют на поругание Ее Саму, не ту ли же боль, усиленную собственным страданием, Она чувствует. Не это ли тело, которое Она ласкала, прижимала к сердцу, носила под грудью, будет Она снимать с креста мертвым, израненным, измученным.
Так выразил идею Распятия Иван Бунин в стихотворении « Древний образ» (1924 г.)
На иконе Распятия изображается Голгофа, гора, на которой распинали Христа. Крест для распятия вкопан на том месте, где был похоронен Адам. Он как бы вырастает из черепа Адама. Человечество, совершенствуя свой дух и разум, неуклонно идет вперед к яркой звезде, которая горит там, вдали, идет через заблуждения и ошибки, через страдания и муки. И крест, и распятый Христос, взявший на себя грехи людей, – символ этого движения и возвышения человеческого духа. Распятие – и торжество, и печаль. Возле креста справа -Иоанн – любимый ученик Христа, самый юный из апостолов. Присутствовавший при казни, он напишет свое евангелие, сосланный на остров Патмос за проповедь христианства запечатлеет удивительное, сверхчеловеческое Откровение – Апокалипсис.
Слева от Христа – Богородица, Мать, на глазах которой мучают и убивают Ее сына. Христос обратился к ней с креста: « Не рыдай мене, Мати, во гробе зрящу». И позаботился о ней, сказав Иоанну: «Се Мать твоя», а Марии: « Се сын твой».
Иоанн, выполняя просьбу Христа, после распятия взял Марию к себе в дом и заботился о ней до ее кончины. Когда муки стали невыносимы, Христос обратился к Отцу Небесному: « Пошто меня оставил?»
Вот это распятие видит восьмилетний мальчик из рассказа А. П. Чехова « На страстной неделе», пришедший на исповедь. Страстная неделя – последняя неделя перед Пасхой, неделя мучений Христа, когда Его приводили на суд к римскому наместнику Понтию Пилату, римские воины, издеваясь и избивая Его, срывали с Него одежды и облекали в багряную власяницу, на голову надевали терновый венок, иглы которого жалили высокое чело. Когда народ, которому Христос нес столько любви, в ослеплении кричал: « Распни его!», а Он, не защищаясь и не возражая, смотрел на людей с прощением и любовью. Страстная неделя – самый строгий пост, оценка человеком своих поступков перед лицом страдающего за людей Христа, которая выражается в откровенной исповеди и покаянии, строгом суде человека над собой.
С таким настроением покаяния приходит в церковь герой рассказа Чехова. «Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда, мною овладевает сознание греховности и ничтожества.
Прежде всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его Божия Матерь и Иоанн Богослов. Паникадила и ставники одеты в черные, траурные чехлы, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце как будто умышленно минует церковные окна.
Богородица и любимый ученик Христа, изображенные в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия; я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество.
Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, и Божия Матерь с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими». (А. П. Чехов Собр. Соч. в двенадцати томах. Т.1У,с.141).
Наступает момент исповеди, когда нужно сказать о себе всю правду, признаться во всех стыдных поступках, в которых часто боишься признаться даже самому себе. Как это трудно сделать, оценить себя, не делая себе никакой скидки, ничего не утаивая, Но как это необходимо человеку. «Теперь уже и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху… Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы. слышу строгий голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть… Многого от волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренно, не своим, каким – то странным голосом, вспоминаю одиноких Богородицу и Иоанна Богослова, Распятие, свою мать, и мне хочется плакать, просить прощения… Как теперь легко, как радостно на душе!»
На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело. смело. чувствуя. что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви все дышит радостью, счастьем и весной; лица Богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера. лица причастников озарены надеждой, и. кажется, все прошлое предано забвению. все прощено …»
Принимая святое причастие, человек как бы говорит себе: я хочу быть участником братства людей, которые умножают в мире добро и противостоят злу. Я знаю, что быть добрым нелегко. В мире есть жестокость, злоба, несправедливость. Люди могут быть ослеплены и страшны в своем ослеплении, но я верю, что не это закон жизни, что есть раскаяние и прозрение. В такие минуты очищения рождаются самые искренние и по – детски чистые стихи – молитвы, стихи – обет
Икона Распятия может содержать в себе и больше деталей, лиц. С ранневизантийского периода в композицию Распятия иногда вводятся изображения казненных вместе с Христом разбойников, которые не пригвождены, но чаще привязаны к кресту. Воины подносят Иисусу, страдающему от жажды, губку с уксусом, прободают его ребро копьем, делят одежду, перебивают разбойникам голени, чтобы ускорить их смерть.
Возле стоящего в отчаянии Иоанна изображается уверовавший в Спасителя римский воин Лонгин Сотник, возле Богоматери – женщины, следовавшие за Христом, Мария Магдалина. Есть много символических деталей. На иконе Ивана Максимова (1671 г.) у ног Марии рассыпанные тридцать серебреников, полученных Иудой, предавшим Христа, весы судьбы, пещера, в которой будет погребен Христос, на фоне сияющего Иерусалима, над которым светит ослепительно яркое черное солнце. Чаша страданий Христа, о которой Он молился накануне казни в Гефсиманском саду: «Господи, пронеси мимо меня эту чашу».
Мирской власти в лице римских воинов, которая занята привычным для себя делом – убивает и делит добычу, противопоставлены слабые горюющие женщины, покорно склоняющие в горе свои головы, объятый отчаянием юноша Иоанн, олицетворяющие здесь народ. А. С. Пушкин пишет свое Распятие, подчеркивая это противопоставление. Стихотворение « Мирская власть» написано в 1836 году по поводу того, что в Казанском соборе в страстную пятницу ставили у плащаницы часовых, оттеснявших простой народ, чтобы господа не « замарались».
Народ и власть – основная тема произведения Анны Ахматовой « Реквием», которое говорит нам о репрессиях ХХ века. Власть, отвергшая Благодать и объявившая ее ересью, установившая жестокие законы, в основе которых лежало величайшее беззаконие, обернувшееся массовыми репрессиями. Создававшийся вначале как лирический цикл стихов, почти дневниковых записей тех страшных дней, когда был репрессирован родной сын Ахматовой, когда стояла она в бесконечных очередях к тюремному окошку, чтобы узнать о его судьбе и переслать передачу, «Реквием» становится поэмой, в центре которой образ Распятия – распятия народа властью на глазах страдающих матерей.
Иконописцы по-разному изображают Марию в иконе Распятия: поникшей, исстрадавшейся, измученной, покорной, как бы отшатнувшейся и окаменевшей, молитвенно сложившей руки или протягивающей их к Христу со взором, устремленным на Сына в знак поддержки и единения, или углубленной в себя, горячо молящейся, чтобы обрести твердость. Но всегда Она безмолвный, вечный укор людям, творящим жестокость: как смеете вы, творящие жестокость, смотреть в глаза Матери. К стихотворению «Распятие» Ахматова берет эпиграфом последние слова Христа, обращенные к Матери: «Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи». Этими словами Сын утешал Мать: не плачь, Мама, Я не умру, Я всегда буду с Тобой.
В двух строфах стихотворения вмещается огромное содержание Распятия: и торжество духа над смертью – «хор ангелов великий час восславил», и прощальные слова Христа, рыдание Магдалины – грешницы, ставшей святой, окаменение Иоанна, укор Матери, и страшный жар черного иудейского солнца – «небеса расплавились в огне» – таким оно, может быть, виделось и самому Христу сквозь черную шевелящуюся массу мух и слепней, облепивших его лицо.
«…в пятом часу страданий… С ближайшего столба доносилась хриплая бессмысленная песенка. Повешенный на нем Гестас к концу третьего часа казни сошел с ума от мух и солнца и теперь тихо пел что – то про виноград; но головою, покрытой чалмой, изредка все – таки покачивал, и тогда мухи вяло поднимались с его лица и возвращались на него опять. Дисмас на втором столбе страдал более двух других, потому что его не одолевало забытье, и он качал головой часто и мерно, то вправо, то влево, чтобы ухом ударять по плечу.
Счастливее двух других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье, повесив голову в размотавшейся чалме. Мухи и слепни поэтому совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под черной шевелящейся массой. В паху, и на животе, и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело.
…Один из палачей взял копье, а другой принес к столбу ведро и губку. Первый из палачей поднял копье и постучал им сперва по одной, потом по другой руке Иешуа, вытянутым и привязанным веревками к поперечной перекладине столба, Тело с выпятившимися ребрами вздрогнуло. Палач провел концом копья по животу. Тогда Иешуа поднял голову, и мухи с гудением снялись, и открылось лицо повешенного, распухшее от укусов, с заплывшими глазами, неузнаваемое лицо».
М.А.Булгаков в романе « Мастер и Маргарита» пишет Распятие как параллель судьбе своего Мастера в те же годы репрессий. Талантливый писатель, создающий исторический роман об Иисусе Христе как реальном человеке, как много мог бы он сказать людям. И это он, посмевший напомнить о том, что все люди добры, нужно только объяснить это каждому, писатель, которому был дан дар врачевать людей силой слова, стоит перед Понтием Пилатом и за несколько минут убеждает прокуратора, «излечивает» его, и он обречен на Распятие, и вместо любви, радости, цветения жизни ему сужден только вечный покой.
Стихотворение Пушкина « Мирская власть» звучит в пьесе М. Булгакова «Пушкин». Дубельт читает его Николаю 1 в доказательство антиправительственных настроений автора. Булгаков вводит этим в пьесу тему Распятия Поэта, его гибели и вечного бессмертия. И так объединяет судьбу Мастера в романе «Мастер и Маргарита» с судьбой великого поэта. Исследователи находят эту тему и в пьесе «Жизнь Мольера». Так перед нами возникает трилогия об отношении художника, творца, мастера и общества.



