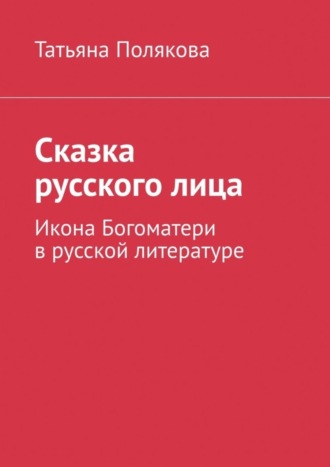
Полная версия
Сказка русского лица. Икона Богоматери в русской литературе
Священный вертеп – пещера в Вифлееме, где помещался загон для скота, где за неимением мест в гостинице принуждены были остановиться Иосиф и Мария, где родился Иисус Христос. Вол и мул склонились над яслями, своим теплым дыханием согревая Младенца. Мария возлежит возле Младенца, но взор ее устремлен на Иосифа, искушаемого бесом в одежде пастуха. Тот протягивает ему сухую ветку, как бы говоря: от сухого дерева может ли родиться зеленый побег. Иосиф погружен в глубокое раздумье. Сейчас он принимает важнейшее для себя решение. Он должен или поверить в чудо непорочного зачатия и чистоту Марии, или по законам древних иудеев отдать Ее на растерзание толпы, побивающей камнями. Что победит в нем: закон или благодать: даже не поверив в чудо, явит ли он сам чудо милосердия и понимания? Или по-прежнему будет торжествовать на земле жестокосердие, будут литься потоки кровавых слез? Иосиф молится и ведет беседу с Богом. Иван Бунин в стихотворении «Новый Завет» воспроизводит этот момент.
В небе поют ангелы, славя рождение Христа, и спускаются на землю, склоняются над яслями. Сходят с гор пастухи, играя на пастушьих дудках. Женщины омывают младенца и пеленают его. В небе горит Вифлеемская звезда, как очи Бога Отца, взирающего на своего Сына. А где-то уже скачут за звездой волхвы со своими дарами.
Изображение Рождества в стихотворении Иосифа Бродского «Рождественская звезда» очищено от деталей, аскетично. Мария одна с Младенцем в темной пещере. Его первые ощущения – тепло материнской груди и взгляд Отца, то, что человек несет через всю свою жизнь. Но Его отец – Бог, и Он, Сын, должен выполнить здесь, на земле, свою миссию. Многозначительно скрещение их взглядов, как две точки в мировом пространстве, соединенные одной прямой; взгляд Отца – поддержка, понимание, напоминание.
О волах говорит желтый пар из ноздрей в холодной пещере. По апокрифу «Протоевангелие Иакова» Христос рождается в пещере, в пустынном месте. Рождение Иисуса – это рождение света, который наполняет всю пещеру. Пещера – символ тьмы, незнания, которую озаряет свет – Христос. И волхвы, перечисленные по именам, что придает документальность изображению чуда. Они первые узнали о рождении Христа, их привела звезда. Втащили подарки Младенцу, родившемуся в пещере, чтоб мир спасти. Как будут потом втаскивать елку на Рождество, развешивать блестящие игрушки, раскладывать подарки. Но это первое празднование Рождества Христова.
В стихотворении можно предположить автобиографический подтекст.
Оно написано уже за границей, и так неизмеримо отдален теперь временем и пространством от автора его любимый Васильевский остров, где остались отец, мать, детство, рождественские подарки, запах мандаринов и халвы, что кажется, находится он где-то на другом конце Вселенной.
Рождественская тема для Бродского очень значима. Много лет подряд он регулярно обращается к ней, создавая все новые стихотворения, в названиях или в обозначении дат написания которых неизменно стоят рождественские дни. Похоже, поэт испытывал в это зимнее время особый прилив вдохновения, желание творчества, как Пушкин осенью: «Рождественский романс» – 28 декабря 1961г.; «1 января 1965 года» («Волхвы забудут адрес твой»); «Речь о пролитом молоке» («Я пришел к Рождеству с пустым карманом» – январь 1967; «Аппо Домiпi» («Провинция справляет Рождество») – январь 1968, Паланга; «Новое Рождество на берегу» – 1971, Ялта; «24 декабря 1971 года» («В Рождество все немного волхвы» – 1972; «Рождественская звезда» – 24 декабря 1987г.; «Бегство в Египет» – 25 дек. 1988г. Это запись текущей эпохи, основанная на вычисленном римским игуменом Дионисием Малым года рождения Христа из Назарета (Аппо Домi пi), ощущение бега времени, повременная запись настроений, переживаний, размышлений, подведение итогов разных лет.
Стихотворение «24 декабря 1971 года» переносит нас в Россию начала 70-х годов, готовящуюся праздновать Рождество Христово. Поэт хорошо передает особую атмосферу этого праздника: ожидание чуда, хлопоты о подарках, запахи хвои, мандаринов, корицы. Все сказочно. Даже трубы домов не дымят, а трубят, как ангелы на иконе Рождества. В церквах поют: «Се грядет…» Сдвигаются столы для общего торжества. Настроение особое – духовное, и в то же время ощущаешь себя ребенком в ожидании подарков и сказки.
Поколение, воспитанное на учебниках по научному атеизму, уже, казалось, совсем забыло тропу в Вифлеем в заснеженной стране, занятой насущными заботами. Но оно же, пережившее очередной пик «разоблачений» религии в хрущевское время, когда с особой страстью и рвением заставляли самих священников отрекаться от веры, пружина атеизма закручивалась все туже, вдруг все настойчивее стало обращаться к вере. У Бродского: «Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней неизбежное чудо».
По закону механики «действие равно противодействию» пружина распрямлялась стремительно. Вначале это была скорее фронда, ответ на запреты, поверхностный интерес, тесно связанный со скептицизмом. Молодежь шла в церкви на Рождество и на Пасху посмотреть. Дальше – больше… Обрядовая сторона религии сохранялась в семьях всегда, например, традиции дарить подарки на Новый год, как это сделали восточные цари-волхвы, приехавшие на верблюдах к младенцу Христу со своими дарами. Но религиозный смысл обряда был утрачен. «Пусто в пещере: ни животных, ни яслей, ни Той, над Которою – нимб золотой… Пустота».
Природа не терпит пустоты. Несколько поколений советских людей было по существу отлучено от гуманистических идей христианства. «Библию» невозможно было ни купить, ни прочесть в библиотеке. Знакомство с ней ограничивалось критикой, часто нелепой, неграмотной и предвзятой. Ценность знания «Библии» для каждого человека, формирования его внутреннего мира, моральных и этических представлений отрицалась. И. Бродский справедливо пишет в стихотворении «Речь о пролитом молоке»:
Отрицая утешительную сущность христианства (в известной цитате она определена как «опиум»), его неприятие принципа вседозволенности, которое выражается в заповедях, рьяные «борцы с религией» невольно подталкивали общество ко всякого рода сатанизму, ко времени когда
Стихотворение «Речь о пролитом молоке» («Я пришел к Рождеству с пустым карманом»), в начале которого звучат строчки «Календарь Москвы заражен Кораном», – написано в январе 1967 года. Нужно ли говорить, что поэт как в воду глядел, судя по нынешнему состоянию общества, и что попытки возвращения религии «сверху» для нашей молодежи сильно запоздали.
Поклонение волхвов – излюбленный сюжет священного писания. За ним стоит идея объединения людей в своем поклонении Матери и Божественному Младенцу, призыв: цари и мудрецы разных стран, склонитесь перед Матерью, перед словом добра и мира, принесите им свои дары, ибо мудрость мира – в слове добра, правды, милосердия. Этот сюжет включает в себя также идею распространения христианства: власть, философия, мудрость, знание и прорицание признают царем земли Слово Благодати. Люди, станьте теми мудрыми волхвами, которые дарят подарки Благодати – добру, справедливости, человеколюбию. Далекий путь пришлось им проделать. Там, где они останавливались на своем пути, оставались знаки того события, к которому они спешили. Иван Бунин в странствиях по святым местам записал и переложил в стихи сирийский апокриф о волхвах, о ночи рождения Исы, так на востоке звучит имя Иисуса, почитаемого как святого, любимого Богом, об источнике звезды, которую видят только раз в году чистые девы, обрученные Богу, невесты с душой неневестныя.
Волхвы изображены на иконе Рождества трижды. Вот они следуют за звездой в Вифлеем. Вот приносят свои дары Марии. Вот отъезжают другой дорогой, чтобы не узнал царь Ирод место рождения Нового Царя – Царя всея земли, Божественного младенца. Сейчас Он на руках у женщин, которые, омыв Его в купели, забавляют. Пастухи играют на дудках, сидят и возлежат возле Христа, а рядом с ними ласковые домашние животные, среди которых родился Христос. Мария светится счастьем. Но уже направлен на нее острый меч римского воина, уже прозвучал приказ Ирода об избиении младенцев. Рыдают, воздевая вверх руки, матери. И страшное деяние совершается. И уже идет воин докладывать Ироду об исполнении ужасного приказа, но не исполнилась его цель. Мария, спасая дитя, в сопровождении Иосифа бежит в Египет.
Сюжет бегства в Египет многократно использовался самыми разными художниками. Вот как увидел его Иван Бунин в своих странствиях по святым местам.
Вторая часть стихотворения – вдохновенная похвала Богоматери, которой поклоняются люди в разных странах: «в странах франков, в их капеллах», «в полумраке величавом древних рыцарских соборов, там под плитами почиют короли, святые, папы, имена их полустерты и в забвении дела. Ты же – в юности нетленной: Ты, и скорбная, светла». Путник везде с восторгом тайным встречает изображения Богоматери: при дорогах, на полях, в темных каменных пещерах и на старых кораблях. Мария, имя которой переводится как « Морская», – покровительница моряков: «Корабли во мраке, в бурях лишь тобой одной хранимы»; « Мачты стойко держат парус, ибо кормчему незримо светит свет очей Твоих». К Пречистым стопам Богородицы люди приносят свои скромные дары: сирота – служанка – ленту, обрученная – свой перстень, мать – свои святые слезы, запоньяр – свои псалмы, Человечество, которое венчает божеской властью тиранов, обагряет руки кровью в жажде злата и раба
Стихотворение «На пути из Назарета» напечатано в газете « Русское слово» в 1912 году под заглавием «Мать». У Бунина есть и другое «Бегство в Египет»
Легко увидеть, что это Русская Богородица, русская Мать, спасающая свое дитя. От какого нового Ирода бежит она, такого жестокого и беспощадного, что ей менее страшен зимний ночной мороз и холод, стаи голодных волков, дерущиеся медведи-шатуны. А ночь, дремучие заросли и фантастические звери с бородами и в рогах, что впотьмах жались, табунились и дрожали, белым паром из ветвей дышали, ближе, теплей и родней, чем люди. И Млечный Путь – Божье полотенце, что стелется в небе, указывает ей путь.
Иродов в России во все века было предостаточно. Мать не может победить Ирода, но она всегда стремится спасти свое дитя. Стихотворение написано в год Первой мировой войны, и это время, помимо внутренних раздоров, становилось источником страданий матерей.
А.П.Чехов в повести «Мужики» рисует иное « Бегство в Египет». Крестьянин Николай Чикильдеев, служивший лакеем в Москве при «Славянском базаре», тяжело заболев и истратив все средства на лечение, приезжает в свою родную деревню Жуково с женой Ольгой и десятилетней дочерью Сашей. Всех Жуковских ребят, которые знали грамоте, издавна увозили в Москву в официанты и коридорные. Деревня Жуково иначе уже не называлась у окрестных жителей, как Хамская или Холуевка. Деревушка тихая и задумчивая, с глядевшими на двор ивами, бузиной и рябиной имела приятный вид. Спуск к реке, которая в версте от деревни, внизу широкий уже скошенный ярко-зеленый луг, стадо, речка извилистая, с чудесными кудрявыми берегами. За нею опять широкий луг, стадо, длинные вереницы белых гусей, потом крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавой церковью и немного поодаль господский дом.
– Хорошо у вас здесь, – сказала Ольга, крестясь на церковь. – Раздолье, господи!
Как раз в это время ударили ко всенощной (был канун воскресенья). Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон.
Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невыразимо-чистом, какого никогда не бывает в Москве. Мир – Божий храм дает человеку понять, как хороша и чиста может быть жизнь. Страшным контрастом к этому описанию служит изображение жизни самих людей. В избе темно, темно и нечисто; большая неопрятная печь, темная от копоти и мух, покосилась; бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу, возле икон, были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги —это вместо картин, Так и молятся этому иконостасу, обклеенному водочными ярлыками, живущие здесь старики – отец и мать Николая, тощие, сгорбленные, оба одного роста; Фекла с двумя детьми, жена брата Дениса, забранного в солдаты; Марья, жена брата Кирьяка и их шестеро детей, все девочки, старшей из которых восемь лет, – все семейство, все эти большие и маленькие тела, которые шевелились на полатях, в люльках и во всех углах, с жадностью ели черный хлеб, макая его в воду.
– Кирьяк у купца в сторожах живет. Мужик бы ничего, да заливает шибко, -сказал отец.
– Не добытчик. Мужики наши горькие не в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже, греха таить нечего, знает дорогу в трактир. Прогневалась Царица Небесная, – говорила старуха слезливо. А за дверями уже слышится громкий, протяжный крик Кирьяка: «Ма-арья!» Марья побледнела, прижалась к печи, и как —то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выражение испуга. Ее дочь, которая сидела на печи и казалась равнодушною, вдруг громко заплакала. Вступитесь Христа ради, родименькие! Заплакали все дети. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу. Она же не издала ни звука и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь. Старик, влезая на печь, бормотал: «Экой срам – то, срам. При гостях —то! Грех какой!». Старуха сидела молча, сгорбившись и о чем – то думала. Фекла качала люльку. Сознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее, схватил Марью за руку и потащил к двери. Увидев гостей, он помолился на образ: « Братец с семейством приехали …Извините». Долго пил чай, потом захрапел.
Ни лада, ни любви, ни понимания нет в этой семье. Но как хочется всего этого каждому. Кирьяку с похмелья было стыдно перед братом: «Водка – то что делает. Ах, ты боже мой. Уж вы, братец и сестрица, простите Христа ради, сам не рад».
Старуха весь день дерется, ругается так, что на улице останавливаются прохожие. Следит за каждым съеденным куском. Старика обзывает то лежебокой, то холерой. Умирающего сына попрекает нахлебничеством и тем, что мало денег присылал из Москвы. Обижает внучат так, что они в Успенский пост рады подлить ей молочка в размоченный хлеб, чтобы оскоромилась и горела за это в аду, бьет их в тот момент, когда они было увидели в небе « ангельчиков», размягчились душой и прозевали гусей.
И эта же старуха становится перед образом, начинает думать о грехах, о смерти, о спасении души. Но нужда и забота перехватывают ее мысль. «…она тотчас же забывала, о чем думала. Молитв она не помнила и обыкновенно по вечерам, когда спать, становилась перед образом и шептала:
Казанской Божьей Матери, Смоленской Божьей Матери, Троеручицы Божьей Матери».
Марья была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже « Отче наш». Она и Фекла были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обе не любили своих мужей. Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети. Придя с Ольгой в церковь, она остановилась у порога и не посмела идти дальше. И сесть не посмела, хотя к обедне заблаговестили только в девятом часу. Так и стояла все время. Когда в церковь вошли нарядно одетые члены помещичьей семьи, Марья глядела на них исподлобья, угрюмо, уныло, как будто это вошли не люди, а чудовища, которые могли раздавить ее, если бы она не посторонилась. А когда дьякон возглашал что-нибудь басом, то ей всякий раз чудился крик: « Ма-арья!» – и она вздрагивала. Только в Ольге, которая утешала ее после побоев мужа, увидела она единственного близкого, родного человека, хотя та ей лишь советовала: «Терпи, и все тут. В писании сказано: аще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую. Терпи, и все тут. Сказано: придите все труждающиеся и обремененные».
Фекле же, напротив, была по вкусу вся эта жизнь: и бедность, и нечистота, и неугомонная брань, Она ела, что давали, не разбирая; спала где и на чем придется; помои выливала у самого крыльца: выплеснет с порога, да еще пройдется босыми ногами по луже. И она с первого взгляда возненавидела Ольгу и Николая именно за то, что им не нравилась такая жизнь, и однажды даже замахнулась коромыслом и ударила Ольгу по плечу. Молодая крепкая женщина, она в поисках любви убегает ночью к приказчикам. Те озоруют, издеваются над ней и раз даже прогоняют, раздев донага. Ольга утешает ее, тайком выносит одежду, и Фекла ревет громко, грубым голосом, тотчас сдерживая себя и потом лишь изредка всхлипывая.
Детей не учили молиться, ничего не говорили им о Боге, не внушали никаких правил и только запрещали в пост есть скоромное. В прочих семьях было почти то же: мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала евангелие, ее уважали и все говорили ей и Саше « вы». Когда Саша, демонстрируя свое умение читать перед собравшимися соседями, по просьбе матери открывает евангелие и читает то место, где является ангел Господен во сне Иосифу и говорит: « Встань, возьми отрока и мать его и беги в Египет и будь там, пока не скажу тебе», – Ольга, взволнованная, повторяет – Отрока и Мать его – и плачет, и за ней Марья плачет и соседи.
Ольге то, что происходило в деревне, казалось отвратительным и мучило ее. Религиозные праздники вместо того, чтобы возвышать душу, становились здесь поводом для новых буйств. На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвиженье пили. На Покров в Жукове был приходской праздник, и мужики по этому случаю пили три дня. Кирьяк все три дня был страшно пьян, пропил все, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно. Ольга, которая говорила степенно и нараспев, и походка у нее была как у богомолки, быстрая и суетливая, каждый день читала евангелие вслух, по – дьячковски, многого не понимала, но святые слова трогали ее до слез. Верила в Бога, в Божью Матерь, в угодников, верила, что нельзя обижать никого на свете – ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев и что горе даже тем, кто не жалеет животных. Когда она произносила слова из писания, лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым.
В трактире и около шумели мужики; они пели пьяными голосами, все врозь, и бранились так, что Ольга вздрагивала и говорила: «Ах, батюшки!» Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно и что громче и дольше всех бранились старики, которым уже пора умирать. А дети и девушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели.
Мы видим, что при внешнем сходстве здесь перед нами две веры. Одна —вольная, вмещающая в себя весь мир, природу с ее красотой, за которую нужно благодарить Создателя, доброту, любовь, милосердие, деятельное участие в приумножении их. Другая вера – корыстная, потребительская, холуйская: Господи, дай, дай, дай – ничего не отдавая взамен, не желая поступиться своей похотью, грязью, дурными привычками в надежде на милосердие и всепрощение. Не стыдно быть рабом Божьим, добровольно принимая в душу заветы добра, справедливости, чести, всего, что для тебя свято и что ты не должен преступать, чего бы это тебе ни стоило. Стыдно быть у Господа Бога трусливым холуем, который только боится гнева хозяина, сам же ни на что не годен.
Когда в деревне вспыхивает пожар, требующий совместных действий, бабы стоят с образами, защищая свои избы молитвой. Полупьяные мужики не знают, за что приняться. Суетятся бестолково и вразнобой. Вчерашние крепостные, они все ждут, что кто-то ими распорядится, кто-то прикажет. Когда подоспела подмога из-за реки и красивый молодой студент в кителе нараспашку, действуя решительно, смело, толково, предотвратил распространение огня, старик Осип, все время простоявший в сторонке, еще и попросил у студента денег на водку « за труды».
В августе в Жукове, в этой Холуевке, пишет Чехов, происходило настоящее религиозное торжество. По всему уезду, из деревни в деревню, носили Живоносную. Живоносная – икона «Живоносный источник». Чудный и утешительный вид имеет эта икона. Представлена высокая, громадная каменная чаша, стоящая на широком водоеме, полном воды. Над чашею парит Пресвятая Дева с Предвечным Младенцем на руках, венчанная короной. К водоему, полному животворной воды, стеклись жаждущие: несчастные, утомленные жизнью, пьют воду и становятся сильными и бодрыми. Какой прекрасный символ. То же происходит и в Жукове. В тот день, когда ее ожидали, было тихо и пасмурно. Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили колокола. Громадная толпа своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка. И старик, и бабка, и Кирьяк – все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:
– Заступница, Матушка! Заступница!
Все как будто поняли, что между землею и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой невыносимой нужды, от страшной водки.
– Заступница, Матушка! – рыдала Марья. – Матушка!
Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому и опять послышались из трактира грубые пьяные голоса.
Есть рассказ о происхождении иконы « Живоносный источник», где повествуется о том, как воин Лев, ставший позже императором, встретил слепца, беспомощного путника, сбившегося с дороги. Лев, желая помочь ему, отправился на поиски воды. У древнего источника, затянутого тиной, он услышал голос, призывавший его подойти к источнику, смыть тину, напоить слепца водой, тину же приложить к его глазам, чтобы прозрел незрячий. Так он и сделал. Произошло чудо исцеления, и родник был Львом очищен, заключен в каменный круг, над ним построили храм Богоматери.
Через сто лет царствовал император Юстиниан, глубоко приверженный к православной вере. Он долго мучился болезнями, не получал от врачей помощи и уже считал себя обреченным на смерть. Однажды в полночь он услыхал голос: «Ты не можешь вернуть себе здоровья, если не напьешься из моего источника. Больной исполнил волю Владычицы: нашел источник, испил из него воды и вскоре выздоровел. В благодарность возле храма, устроенного Львом, он воздвиг новый великолепный храм, при котором впоследствии создался многолюдный монастырь
Крестьяне из деревни Жуково тоже припадают к Живоносному Источнику, но не могут из него напиться. Где тот добрый пастырь, который очистит их душевный источник от грязи, ила, тины, озлобления, пьянства, буйства, бессмысленной жестокости? Кто поможет прозреть слепцам, кто излечит их? Неизлечимо больны они и не могут вернуть себе здоровье, если не напьются из животворящего источника любви, справедливости, доброты, внимания.
Ольга после смерти Николая уходит из деревни. За зиму она постарела и подурнела, и уже вместо прежней миловидности и приятной улыбки на лице у нее было покорное выражение пережитой скорби, и было уже что-то тупое и неподвижное в ее взгляде, точно она не слышала. Ей было жаль расставаться с деревней и с мужиками. Она вспоминала, как несли Николая и около каждой избы заказывали панихиду и как все плакали, сочувствуя ее горю.
В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живут несогласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик.
Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые побогаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, не честны, не трезвы и сами бранятся так же отвратительно; самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит « ты» и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая – нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать? Ольга вспомнила, какой жалкий, приниженный вид был у стариков, когда зимою водили Кирьяка наказывать розгами… И теперь ей было жаль всех этих людей, больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы.
Ольга бежит с дочерью из деревни, как бежала в Египет от царя Ирода, от избиения младенцев, спасая своего Сына Мария. Уходит, уповая на помощь православных христиан. Остается в деревне другая Мария. «Проводив версты три, Марья простилась, потом стала на колени и заголосила, припадая лицом к земле:



