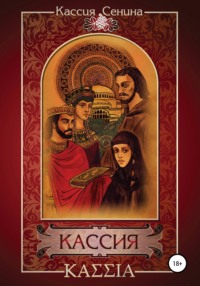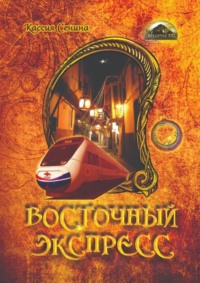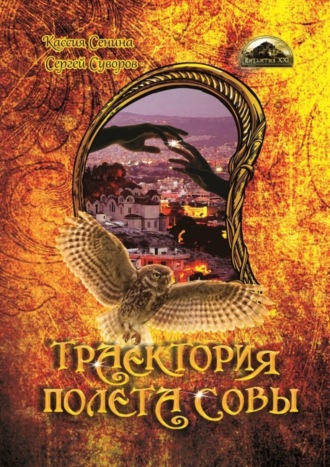
Полная версия
Траектория полета совы
Лицо василевса закрывала маска Константина Великого, напоминавшая прежнюю статую с колонны Форума: строгие античные черты Аполлона, сияние вокруг головы в виде тонких лучей… А настоящий, живой Константин, пряча под маской тревожную складку губ, пытался понять, что за сигналы несутся к нему из бурлящего людского моря. Враждебна оно или снисходительно? Может быть, все эти люди – его союзники, соратники и болеют за благополучие страны? Где же тогда недовольные, которые не далее как нынешним утром вопили, что умирают от голода, что им недостает свободы, что звери-астиномы до смерти напугали невинных девушек, решивших устроить художественную акцию на могилах Ласкарисов? Да еще наложили большие штрафы, да еще, говорят, невежливо пихали коленками пониже спины, заталкивая в машины… Разве не возмутительно?!
Понимая, что его настоящее лицо никто не увидит, Константин позволил себе усмехнуться. Да, протестующая общественность, похоже, обижена тем, что акция в усыпальнице прошла почти незамеченной. О ней бы и вовсе не говорили, если б не шум, поднятый Кириком с его юродствующей братией, легковозбудимыми фанатиками, уже кричащими о крестовом походе за веру и о несмываемой обиде, нанесенной Вселенской Церкви…
Средняя шевелилась и пульсировала, гнала в сторону Августеона человеческие потоки, словно напряженная вена – темную кровь к сердцу Империи. На миг Константину показалось, что в толпе мелькнула характерная маска «Экзегерси Гатес» – так, оказывается, называлась поп-группа, сплясавшая на могилах его предшественников. Или это просто морок?..
Как раз сейчас должно было начаться ритуальное действо – переход на статую Юстиниана. Давным-давно, более тысячи лет назад, при императоре Феофиле, некий кровельщик умудрился натянуть веревку от копыта Юстинианова коня до крыши Великой церкви и перебраться к царственному всаднику: с бронзового шлема исполина от землетрясения попадали золотые перья, и нужно было вернуть их на место. За это обещали награду, однако желающих долго не находилось: уж очень высоко вознесся великий император со своим скакуном, уж очень грозно простирал он руку на Восток, в сторону Персии, Индии и самых дальних варварских стран… И всё же человек придумал, как покорить бездну между Святой Софией и конной статуей василевса.
Вот очередной смельчак уже на крыше Великой церкви. Прожектор высвечивает его силуэт, он машет толпе рукой и смеется. В правой руке тяжелый арбалет. Секунда – он приложен к плечу, стрела летит под копыта коня, за ней тянется тонкая леска… Получилось! В этом-то и заключается основная интрига трюка: сумеет ли канатоходец натянуть веревку – каким угодно способом, с помощью ли стрелы, метко пущенного копья, камня из пращи или какого-нибудь другого снаряда, к которому привязана прочная нить – и насколько ловко вскарабкается он на голову Юстиниана за вставным пером плюмажа…
Внизу стрелу подхватывают, тянут, налегают: за леску привязан тонкий канат, он быстро натягивается от пьедестала статуи до кровли – можно идти! Отважный канатоходец ступает на зыбкую нить. Снизу канат и правда кажется ниткой, которая к тому же предательски растягивается, провисает, несмотря на усилия тех, кто внизу. Но у канатоходца надежный длинный балансир, он двигается медленно, пройти нужно более ста метров, на высоте пятидесяти… Толпа внизу замерла – и как будто даже слышно, как потрескивают каштаны на жаровнях, пузырится пиво в кружках… Тянутся секунды, минуты, и кажется, что это путешествие никогда не кончится или завершится ужасно: все знают о страховке, но ее не видно снизу, да и что в ней толку? Оступиться на глазах многотысячного Августеона, перед императорской четой и десятками телекамер – хуже смерти. Смерть могла бы быть почти мгновенной, даже почетной, а позор барахтания в воздухе на спасательном поясе под крики и улюлюканье – непереносим…
Но он дошел! Смелый канатоходец кланяется императорской ложе, сама Судьба посылает ему воздушный поцелуй, приветственно поднимает длань основатель Города, внизу плещется восторженная толпа… Смельчак устраивается в блестящем подвесном треугольнике, скользящем на роликах по стальному тросу, и через несколько мгновений оказывается на земле. Там с восторгом встречают канатоходца, он передает на трибуну синклитиков символическое перо, принесенное с головокружительной высоты, – и получает горсть отнюдь не символических золотых номисм. Трибуна синклитиков пристроена к стене Дворца и не особенно поместительна, ведь только люди самого почтенного возраста соглашаются в такой день представлять выборную власть посреди веселой толпы. Но и этот атрибут праздника совершенно необходим – обычай, древний обычай…
– Обычай, это наш древний обычай! – объяснял человек в длинном золотом придворном гиматии и с золотой же полумаской на лице, другому, одетому в строгий черный костюм, но в такой же золотой полумаске и накинутом на плечи серебряном плаще.
На плече у чиновника красовалась вышивка, говорившая о принадлежности к коллегии переводчиков. Его визави был вежлив, сдержан, но гладко выбритые щеки и волевой подбородок непостижимым образом выдавали крайнюю степень удивления происходящим вокруг, смущения и даже тоски.
– Календы длятся десять дней, – объяснял переводчик.
– А потом?
– А потом огни торжественно заливают водой и наступает крещенский сочельник.
– Соче… Ах, да. – Мужчина кивнул, вспомнив устаревшее слово.
– До него еще далеко. Так вот, каждый день посвящен одному из диоцезов Империи, коих тоже десять – Болгария, Сербия, Пелопонесс, Каппадокия, Палестина и так далее. В этот день на Среднюю доставляются кушанья и напитки, традиционные именно для данной провинции, выступают артисты, поэты, родившиеся в тех местах. Даже оформление улицы делается в цветах диоцеза. Вот сегодня, например, день Халдии, она населена преимущественно турками, и вы видите красно-синюю гамму. И, между прочим, зрители должны выбрать лучшие маски театра Мазарис, которые будут участвовать в финальном представлении.
– Какого театра, простите?
– Мазарис. Это греческий народный театр, уличный театр, у него долгая история.
– Я уже понял, что здесь не бывает кратких историй. – Гость улыбнулся.
– Истинно так… Благодарю вас, вы необычайно любезны! – Переводчик почему-то почувствовал себя польщенным.
«Какой у него архаичный язык! – подумал президент Российской Республики, а это был именно он. – Не иначе, проходил стажировку в Сибирском царстве… Или у местных эмигрантов научился?»
С представителями ортодоксальной русской эмиграции Михаил Ходоровский уже успел встретиться позавчера в бывшем посольском храме апостола Андрея Первозванного. Пожилые интеллигентные люди, говорившие со странным прононсом, который они называли истинно-петербуржским, ему чрезвычайно понравились. Всё в них было изящно, сдержанно, пропорционально. Если бы не странное желание, чтобы в ленинградском Эрмитаже немедленно водворился толстый избалованный мальчик, почему-то считавшейся истинным наследником российского престола, с ними было бы очень приятно общаться… Но эта деталь, к сожалению, смазывала впечатление: президенту чувствовал себя крайне неловко, видя, как умные адекватные люди совершенно теряют голову, говоря о законе императора Павла I и сакральной особе монарха… И где – в Константинополе, который, хотя внешне достаточно традиционен, при этом, однако, не абсолютизирует ни одну из политических теорий.
– Я всё же позволю себе вкратце рассказать о Мазарисе, если вы благоволите выслушать, – вернул Ходоровского к действительности переводчик. – Видите ли, народный, площадной театр существовал у нас очень давно, задолго до Великой Осады. Только это был еще не театр вовсе, а нечто вроде… балагана, как говорили у вас в России. Ходили повсюду такие люди, которые на потеху публике кривлялись, плясали, изображали попов и фискалов, смеялись надо всеми…
– Что-то вроде скоморохов?
– Именно! Я запамятовал это слово. И их, разумеется, осуждали, даже преследовали, особенно церковь. Но когда началась Реконкиста, когда произошло смешение племен и наложение друг на друга всяких новых смыслов, этот жанр очень сильно изменился, вернее, оформился в нечто цельное. Появились эдакие стандартные персонажи: турок Балабан – хитрый, но недалекий; крестьянин Петро – честный, но совсем простой парень; монах Симеон со своей подружкой, уличной девкой Федорой; отважная Зулейка, которая всегда борется за правду; злой судья Воидат… Готовые маски, понимаете? Их довольно много.
Ходоровский кивнул, наблюдая тем временем, как воздушные гимнасты выделывали невероятные трюки на канатах и трапециях, натянутых между портиками Августеона. Некоторые при этом пытались самыми различными, порой комическими способами подняться с земли на статую Юстиниана: один полз по тросу задом наперед, другой ехал на детской лошадке, за третьим гналась жена с большой скалкой…
– Так вот, – продолжал переводчик, – для этих героев придумывали всяческие приключения, часто фантастические, пока, наконец, не поместили их в загробный мир – в такое странное место, которое описано в сатирическом диалоге «Мазарис». Там-то вообще всё можно, никаких запретов, полная свобода творчества… И этот театр Мазарис стал пользоваться огромным успехом в варварском мире. Бродячие труппы ходили по всем окрестным странам, потешали публику, которая раньше ничего подобного не видела…
– У нас в России, кажется, тоже одно время была мода на что-то подобное, – припомнил президент.
– Да. Варвары так падки на всё блестящее, на внешние эффекты, и это их губит… То есть, простите, – поправил переводчик сам себя и даже закашлялся от неловкости, – я, собственно, хотел рассказать историю завоевания Северной Болгарии, она связана с Мазарисом. Вы не слыхали?
– Нет. Я думал, ее завоевание связано с восстанием болгар против османов.
– Нет, что вы, болгарские области потом очень долго находились под властью турецкого султана – я разумею того, который воцарился в Киеве.
– Вот оно что…
– Да! Турки ведь доходили до Вены, и если бы не постоянная угроза от Империи с тыла, то как знать… Коротко сказать, во время войны за испанское наследство они оказались в крайне невыгодном положении, и император Иоанн Веселый решил этим воспользоваться. В один прекрасный день коменданту Варны, Юсуф-паше, доложили, что у ворот города стоит труппа бродячих артистов и просится дать несколько представлений. Паша был известным любителем изящного, – тут переводчик усмехнулся, – и тотчас приказал пустить актеров внутрь, с тем, чтобы первый спектакль они дали в его дворце, в цитадели.
– Неужели он ничего не заподозрил? – Ходоровский проницательно посмотрел переводчику в глаза. Он уже представлял, о чем будет дальнейший рассказ.
– Ну что вы, – кротко ответил тот, опустив глаза долу, – ведь с Империей был тогда заключен мир на пятьдесят лет…
– Понятно…
– Да. Так вот, паша со своими приближенными, развалясь на ковре, наслаждался зрелищем. И, вероятно, остался бы в конце концов очень доволен, если бы актеры вдруг не выхватили откуда-то сабли и не изрубили всех зрителей в куски… Говорят даже, что сам император был в этой труппе и, если лично не размахивал клинком, то, во всяком случае, не отказал себе в удовольствии наблюдать за неожиданной развязкой пьесы из-за занавески…
– Довольно безответственно для правителя, не находите?
– Возможно. Но никаких подтверждающих документов не сохранилось, и вообще…. Таков был его характер!
– И что же дальше?
– А дальше всё просто: начало представления странным образом совпало с появлением в гавани Варны нашего флота, который высадил десант. Никто в городе не сопротивлялся.
– Потрясающая история, – задумчиво промолвил Ходоровский.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Филиокве (лат. Filioque – «и Сына») – добавление к латинскому переводу христианского Символа веры, начавшее распространяться на западе еще в конце VII в. и окончательно принятое Римской церковью в XI в., утверждающее, что Святой Дух исходит не только от Бога-Отца как от причины, но и от Сына. В Византии эту прибавку к Символу сочли незаконной и еретической, что стало одним из поводов для разделения восточной и западной церквей.