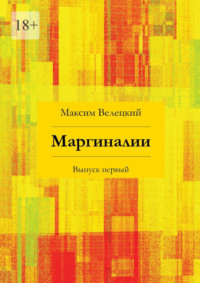Полная версия
Несть
Игнатов непринужденно вдел ремень в брюки. Подполковник был явно расстроен.
– Мерзавец ты, Юрий. Устроил из дуэли какую-то корриду. А этот, – он брезгливо указал на Кротова, – будет разжалован.
Сержант зашелся пуще прежнего. Он поднял молящий взгляд на офицера.
– В… в… в… ря… рядо… рядовые… што… штоли? – голос его дрожал от боли, холода и ужаса.
– Нет, друг мой. Из живых – в мертвые. Игнатов, улетай отсюда. Пулей.
Юрий подобрал куртку и вышел через ворота. Подойдя к своему автомобилю, он услышал два пистолетных хлопка по ту сторону стены. Быстро переодевшись в запасной комплект одежды, он уехал с поста.
Игнатов уже переехал на Левый Берег, когда ему вновь позвонил Барабаш.
– Юра, притормози. Прокуратура нагрянула. Тебя они видеть не должны.
– Почему? У меня с ними всё перетерто.
– Не всё. Приехал Иотаутис. Он тебя не должен приметить – даже издали.
– Ох… Он разве не в отпуске?
– Сегодня с утра неожиданно вернулся на службу.
– Сколько он еще там пробудет, как думаешь?
– Ты же слышал про Иотаутиса – его в дверь, а он в окно. Такая зануда может три часа волынку тянуть.
– Не понимаю, почему он на меня ополчился. Мы же даже не знакомы. Чего он справки наводит постоянно? Чем я его задел?
– Ты, дорогой человек, сыскарь первоклассный, но в психологии человечьей ни черта не смыслишь. Простые людские эмоции, такие как обида, гнев, ревность, радость и страх не свойственны страдающим профессиональной деформацией, коим является Иотаутис. А я, знаешь ли, и сочувствую ему, и вместе с тем завидую таким толстокожим натурам. Он почти машина делопроизводства, идеальный служащий – не просто ничего личного, но и никакой личности. С тех пор, как погиб Плигин. – Голос Барабаша посерьезнел. – Иотаутис любил его до самоотречения, до истомы душевной. Казалось бы, что может быть у них общего – вялолицый 120-килограммовый советник юстиции и будто вылепленный из мрамора заслуженный артист цирка, ан-нет – до остановки кровотока, до почернения фаланг пальцев от концентрации сигаретных смол. А ты спрашиваешь – «чем задел?»… Да он плевок в лицо забудет через минуту. Если плюнули в него не при исполнении, ибо тут уже статья.
– Плигин был двурушником и вертопрахом. Горит в аду – и поделом ему. Чего стоят его фокусы с овощебазой!
– Человек слаб. Благодаря этому тривиальному факту у меня есть звание и должность, а у тебя – хлеб насущный, – Барабаш усмехнулся. – Анекдот недавно хороший услышал. Мужик едет на пригородном автобусе в маленький городишко. В конечном пункте спрашивает водителя: «Есть ли у вас в городе бордели?». Тот отвечает: «Нет, у нас очень пуританский городок, но есть одна тема: вечером идите на кладбище. Рядом с церковью каждый день до полуночи молится одна монахиня. Подойдете и скажете, что, мол, так и так, дочь моя, я Иисус, так что отсоси мне. Она поверит и отсосет». Мужик вечером приходит к церкви и видит монашку – ну и говорит ей всё как водила велел. После завершения процесса, короче, решил постебаться над ней. Я, говорит, тебя обманул. Я не Иисус, а просто турист. Она отвечает: «Это еще кто кого обманул! Я не монахиня. Я водитель автобуса».
От смеха Игнатова растащило на истерический фальцет.
– Вот за что я тебя, Юрик, люблю – ты всегда смеешься над моими анекдотами. А жена и дочка их не понимают!
Игнатов окончательно успокоился и вновь вернулся к изначальной теме.
– Скажи мне, Алексей, если я всё же наткнусь на Иотаутиса, чего ожидать?
– Вопросов про Крапивина, как минимум. Это только то, что лично я знаю о его интересе к тебе. Ну и по всем другим своим художествам – будь готов.
– А про Крапивина что ему отвечать? Или послать подальше – «присылайте повестку»?
– Не обостряй. Говори то же, что и до закрытия дела. Скажи, мол, очутился у него на даче волею случая. Руки у него не было еще с вечера. Дверь в свою комнату он выломал сам. Баню поджег не ты. В подполе ты оказался из-за глупой шутки покойного. Собаку повесил он.
– Понял, спасибо. Я чист как слеза праведницы.
– Ага. Той, из анекдота.
Игнатов снова зашелся в радостном исступлении.
– Мне сообщат, когда он уйдет. Поскучай пару часов.
Игнатов стоял на обочине дороги и пролистывал список контактов в телефоне.
– Эрнест Карлович, здравствуйте. Я рад, что Вы, наконец, мне ответили.
На другом конце послышался тихий грудной голос.
– Юрочка, дорогой, как Ваше здоровье?
– Вашим заступничеством перед Всеблагим, – мягко и без иронии произнес Игнатов, – иначе не могу объяснить недавнее исцеление.
– Я думал о Вас ежедневно, наводил справки через Всеволода. Получили мои гостинцы?
– Конечно, Эрнест Карлович, трапеции отменные. Стопроцентное попадание. Хотел бы сейчас заехать к Вам – правда, у меня всего пара часов.
– «Всего пара часов». Надо же как… – собеседник медленно выдохнул, – «Всего пара часов». Всего, да не всего. Время… Знаете, на днях у меня случился приступ радикулита. Вы уж не серчайте на эту мою откровенность – знаю, что не любит молодежь разговоры про болезни стариковские, но… Я не жалуюсь, нет. Я в строку Ваших, Юрочка, слов.
Он тяжело выдохнул, собираясь с силами.
– Так вот, радикулит. Неудачно повернулся и застыл. Ни с места. Посреди Синей Комнаты. Боль была адская – ни выдохнуть, ни вдохнуть. Как вкопанный стоял. И, знаете, Юрочка, страх, страх… Не головной и даже не сердечный – прям-таки сквозной, нутряной, осевой. Умом понимал, что нужно перетерпеть, переждать, перестоять. Через час-другой должны были прийти мои курды. Немного побуду памятником, думаю. Но душа мечется, вот в чем дело. Некуда ей деться, ни миллиметра свободы. Понимаете, Юрочка, если у памятников есть души, то эти души несчастнее тех, что томятся в геенне огненной. Потому что там, в пекельном царствии, им дозволено возопить, забиться в агонии безумной, а тут… Тут даже вдох давался с болью. Знаете, будто в воздухе растворили эссенцию страдания. Казалось, будто мой паралич своим источником имеет пространство, поглощаемое легкими. Так и памятники – им не закричать, не заплакать. Только представьте себе такую нулевую точку свободы. Попробовал спустя минут пять пальцем пошевелить – так этот еле заметный сигнал от мозга к конечности тут же был перехвачен той невидимой анакондой, что намертво вцепилась мне в спину и обвила остов. Я через силу перевел взгляд на стену в поисках какого-нибудь духовного утеса, о который смогу опереться на время паралича. И, знаете ли, нашел. Старые настенные часы. Тикают негромко, слышны только в полной тишине, когда слух заострен, как наконечник ахиллесова копья. Я, что называется, уцепился за них. Вгляделся, впился. Мне невыносимо было быть собой, ох невыносимо, невозможно, неподъемно, нестерпимо. Я должен был переместиться вовне. Я слился с секундной стрелкой, я познал ее, понимаете? Каждое ее положение сделалось для меня особенным. Первые десять секунд минуты она проходит деловито и молодцевато, вторые – бодро и осмысленно, третьи – медлительно-озадаченно, четвертые – скованно и осторожно, пятые – на пределе сил, на экстремуме воли, последние – на втором дыхании, но непреклонно. Путь от нуля до нуля более трагичен, чем гибель всего живого. Хотя бы потому, что когда гибнет мир, то он гибнет, а стрелка должна идти дальше, без пауз, без оглядки. Можно ли представить жизнь, в которой нет места взгляду назад? Я не мог оглянуться назад, я был превращен в окаменелость беспощадным ходом биологических жерновов. И она не могла. Мы были заодно, мы были одним. Это не литературная красивость, не барочная завитушка на фасаде речи – это чувство: физиологическое, клеточное, мышечное. Через двадцать-тридцать оборотов ее-меня я почувствовал, что насыщаюсь временем, поглощаю его, просеиваю его. В какой-то момент я понял, что совершенно счастлив. А когда шестипудовая фея в синем костюме сделала мне инъекцию вольтарена, и я смог вытянуться на кушетке, то испытал ангедонию, страшную тоску по утраченному экзистенциальному ориентиру, ностальгию по боли и страху, въевшихся в вечный круговорот времени.
Игнатов помолчал.
– Так можно к Вам заехать?
– Нет.
Эрнест Карлович повесил трубку.
Спустя три часа невысокая женщина в махровом халате наливала Игнатову белый чай.
– Я всё-таки не понимаю, чем Вы можете мне помочь. Я рассказала всё, что знала. И всё, о чем догадывалась. И полиции, и следствию, и прокурорам: они судились с братом за наследство свекра. У Толи были долги перед арендатором. Всё.
– Инесса, Вы действительно уверены, что я ничем не могу Вам помочь? – спросил Игнатов с интонацией заговорщика.
Она пожала плечами.
– Варианта всего два. Следователи их отработают, я думаю. Я надеюсь.
– Из меня плохой менеджер по продажам собственных услуг. Но у меня есть основания думать, что я смогу быть Вам полезным.
– Это из-за вкладки на компьютере? Вам сообщили опера?
– Не буду скрывать – да. Зачем же Вы искали то, что искали?
– Да просто они вели себя ужасно! Полиция еще ничего, а когда следователь приехал, то… Он приземистый, перекаченный такой – вообще не приступал ни к чему, пока не сделал себе два бутерброда. Хам. И дебил. Насвистывал какие-то мотивчики блатные. И это в такой момент! – ее голос сорвался на крик и перешел в слезы.
– Барабаш не меняется, – вполголоса произнес Игнатов, понимая, что рыдающая вдова не расслышит его слова.
– Я… я бросилась искать кого-то… кого угодно, кто не такой, как он!
– Почему же Вы сейчас передумали?
– Человек из прокуратуры был совсем другой. Очень вкрадчивый, щепетильный. Сказал, что надзор за следствием осуществляет он, а потому не даст этому… ну, который дебил – убрать дело под сукно. Так что…
Игнатов встал.
– Я знаю этого прокурора. Он профи. Но он долгое время жил с цирковым артистом – я бы не доверял человеку, которого использовали вместо батута. Вот моя визитка. Если буду нужен, звоните. Один вопрос задам. Откуда у Вашего мужа платок с вышивкой?
– Не знаю!
– Вы замечали в его поведении нечто странное? В последнее время.
– Нет, еще раз нет! Почему же вы все одно и тоже мусолите! Не знаю! Не знаю!!!
– Он не был членом какой-нибудь секты или политической организации?
– Никогда! Мой муж был совершенно аполитичным, глубоко верующим человеком, добросовестным прихожанином Русской Православной Церкви!
Она подняла на Игнатова заплаканные глаза.
– Помню… наизусть помню его любимое, – она с усилием сглотнула и начала читать тихим, сбивающимся голосом. – Новое чудо бысть: тойже бо Ангел явився святителю Илии, повеле ему дати сельце то на вселение ти и церквицу на молитву, еже и сотвори святитель абие. Сия поминающе, тако тя величаем. Радуйся, ангельски пожившая, радуйся, Ангела Господня узревшая. Радуйся, сладкия беседы его причастнице. Радуйся, яко и пред святителем ходатай бе о тебе. Радуйся, Ангелом и на всех путех твоих храненная. Радуйся, кровом крил его огражденная. Радуйся, не преткнувшая ноги твоея о камень гордыни. Радуйся, сего ради видения зрака ангельского удостоенная. Радуйся, яко явися ти…
Игнатов на последних словах начал тихо начитывать ей в унисон:
– …яко явися ти, иже зрит лице Отца нашего Небеснаго. Радуйся, не прогневльшая хранителя ничимже суетным и греховным. Радуйся, сего ради радостныя вести удостоенная. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная!
Инесса вновь подняла на Игнатова заплаканные глаза, в которых читалось искреннее изумление.
– Побратаемся? – полуутвердительно спросил он.
Она медленно поднялась со стула и подошла вплотную к Игнатову. Они трижды расцеловались в щеки. После паузы он взял вдову за плечи и вкрадчиво спросил:
– Вы готовы поклясться всем святым, что Ваш муж был всецело христианином?
Инесса потупила взор и присела.
– Толя… да, почти… он только… были у вопросы. Чисто теологические. Но важные с толиной точки зрения.
– И какие же вопросы у него были к православному вероучению? – спросил Игнатов с нотками предосуждения.
– Ну, вот этот момент, например, насчет двух природ в Иисусе Христе… Теория диофизитства представлялось ему немного надуманной…
– У него были какие-то восточные корни? Из тех народов, которые монофизиты, а не диофизиты? Армянские, например?
– Нет-нет, дело тут отнюдь не в корешках, а как раз таки в вершках, – она дважды указала пальцем на висок. – Толя совершенно естественным образом пришел к осознанию, что догмат о двух природах Иисуса нелогичен…
– Но как же быть с формулой Халкидонского Собора? Человеческое и божественное во Христе нераздельны и неслиянны. Что же тут неверно, на его взгляд?
– Толя был логиком во всём. Он считал, что раз две сущности Христа суть едины, то также они должны быть и противоположны. Как бы диалектически, я… не очень в этом разбираюсь, я по профессии акушерка…
Возникла пауза. Затем Инесса продолжила:
– Так вот божественная и человеческая природа… они не могут быть равноценны, равносильны, потому один… как бы…
– Один фюзис должен доминировать над другим?
– Да, именно. Он так полагал. Ведь иначе получается не столько органическое единство, сколько конфликт! Сын Божий суть Спаситель, а не кентавр или оборотень, знаете ли…
– Нетождество между природами Иисуса никогда и не отрицалось в греко-латинской ортодоксии. По божеству Иисус единосущен Отцу, а по человечеству – людям. Нет и не может быть тут ни единства, ни конфликта. Разве вопль отчаяния в Гефсиманском саду не является свидетельством человеческого в природе Христа? Он дал слабину как человек, отчаялся перед лицом будущих мук – собственных, и учеников его, и матери своей, и братьев, и сестер от матери своей. Тут перед нами человеческая трагедия, не так ли?
– Но ведь Троица существовала всегда? До вочеловечивания Христос был органической частью этого единства. Толя был убежден, что после вознесения во плоти Он должен был изменить, понимаете, неизбежно, непременно изменить Троицу. Так как Его природа двойственна, то вместо Троицы мы получаем Четверицу, а это уже…
– Пифагор.
– Скорее, Хайдеггер… Но ведь Троица существует неизменно, и Иисус неизменен… Толя считал, что греки сами себя запутали, а в результате ближе в Истине оказалась не Эллада, а эллинистические государства – Антиохия, Египет и прочие. Они не гнушались его человеческой природы, но и не ставили ее вровень с бессмертной. Ведь если природа человека тварна, а причина сотворения вечна, то сотворенное всегда будет ниже сотворившего, думал Толик. А ежели онтологически беспредпосылочное начало и полностью зависимое от него творение сольются в одном лице…
– То как же тогда они смогут стать равными, так?
– Именно! Вы прям-таки цитируете Толю. Так вот также как животное начало в человеке существует не наравне с началом разумным, но подчиняясь ему, так и человеческая природа не могла существовать во Христе наравне с божественной, ибо неравное не может быть равным равному. Это нетождественное может быть тождественно тождественному, как доказывал…
– Пифагор.
– Скорее, Гегель. Но равное не равно тождественному, а неравное не тождественно нетождественному, потому во Христе не мог работать этот принцип. И ровно поэтому же не мог работать и другой – о независимости двух природ друг от друга.
– Но ведь церковь и не уравняла эти природы, а всего лишь соединила их, разъединив. Помните, Лев Великий писал, что «ни малейшей неправды нет в этом единении, так как совместно существуют и смирение человека, и величие Божества». То есть предикатом божества здесь выступает величие, а предикатом человечности – смирение, а величавое и смиренное по определению не могут быть равноценны.
– Да, но ведь и сторонники единой природы не отрицали человечность Христа, но лишь утверждали ее поглощенность божественностью. Но богословы, завороженные греческой логикой, стали громоздить Платона на место Христа – и Христа подлинного забыли. Толя так считал.
– Ну почему же забыли? Пусть христианство и черпало свои философские основания не столько в текстах Евангелия, сколько в неоплатоническом учении – но именно отсюда вышла преемственность между библейской и языческом традицией. Так была познана Истина.
– Истина ли? Или язычество, на которое ранними экклесиями была наброшена, как выражался Толик, мантия христианской моралистики?
– В итоге получается, что помимо христологических сомнений, у Вашего мужа были также возражения против догмата троичности в его ортодоксальном виде.
– Толя склонялся к чистому монотеизму. Не отрицая Христа. Но Христа как Бога по благодати, а не по единосущности с Отцом.
– Арианство?
– Скорее, несторианство. Я слабо в этом разбираюсь, я акушерка.
– Зайдем с другой стороны. Как бы христианство не было зависимо, скажем, от Плотина, мы всё же не можем отрицать очевидные факты. Факт есть, его форма и содержание неоспоримы, ежели только не умножить, а тем самым зачастую и развенчать его причину и его телеологию. К таковым фактам относится и то, что у Вашего мужа была при себе найдена баночка для анализов. Какова, на ваш взгляд, телеология этой энтелехии?
– Речь здесь идет не о субстанции, а об акциденции.
– Я не люблю Аристотеля. Поясните, пожалуйста.
– Насколько я знаю, Толя ничем не болел. Но он был немного скрытным человеком, не хотел меня расстраивать по пустякам. Всё может быть.
– Он имел, простите за прямоту, слабость к слабому полу.
Она закурила и вперила в Игнатова прямой взгляд.
– Трахал всё, что шевелится.
Они весело рассмеялись.
– А кто такой Петр Вахрушев, визитка которого была найдена у Анатолия?
– Это друг Николая Кирилловича Аполлонова.
– Вот как? Тогда всё понятно. А Ваш муж хорошо знал Аполлонова?
– Не хуже любого другого человека, – она пожала плечами.
– Линия их взаимодействия проходила, я так понимаю, именно через Вахрушева?
– Нет, через Прохоренко.
– А Прохоренко бывал у Вас дома?
– Нет, но мы у него бывали нередко.
– Сердарова там всегда была?
– Только, если точно знала, что явится Марат.
– Неприятный тип.
– Зато прекрасный маммолог.
Игнатов выдержал паузу, собираясь с мыслями.
– Поверьте, Инесса, для меня это дело отчасти личное, и я готов расследовать его исключительно ради установления истины. Почти той самой, к которой так стремился Ваш муж. Но у меня будут расходы. Мне нужно всего двести тысяч рублей, и через месяц виновные предстанут либо перед судом, либо перед Богом. Если следствие, подстегнутое прокуратурой, найдет виновного раньше меня – обещаю вернуть деньги в полном объеме.
Вдова медленно встала и скрылась в коридоре. Через две минуты она вернулась и протянула Игнатову мятый конверт.
– Здесь двести пятьдесят. Побратаемся?
Они снова трижды расцеловались в щеки.
Сев в автомобиль, Игнатов открыл «Лиловую книжицу», каллиграфично вывел «Живцы» посредине нового листа и написал следующие слова: «Клико», «Сердарова», «Монахиня», «Халкидон», «Жир», «Конверт». Вынул из кармана игральный кубик, подбросил его левой рукой, поймал правой и раскрыл ладонь. Кубик, попав в углубление посредине ладони, фактически встал на ребро, обнажив числа 1 и 3.
Игнатов вполголоса выругался и сделал заметку внизу начатой страницы в «Книжице»: «Прямой путь. Почему не „Жир“?». Он судорожно вынул телефон.
– Настя, важно. Свяжись с Барабашем по выделенной линии. Скажи, чтобы вечером ехал ко мне, в сопровождении. Чтобы домой не заезжал.
– Юрий, а Вы не хотите к нему, в управление? Я ошибаюсь или дело срочное? Может, время не терять?
– До девяти вечера встреча не имеет смысла.
– Вы что, хотите собирать «Железную Дорогу»?
– Да. И непременно пустить все составы.
– Нельзя, нельзя так рисковать! И двух месяцев не прошло! Кто будет стрелочником?
– Грушевский, полагаю.
– Вы собираетесь вновь довериться отставному стрелочнику? Я против. Если человека из РЖД выгнали за халатность в отношении настоящей, ну то есть, большой дороги, то как он справится с портативной?
– Настя, что за трындеж? Знаешь, мне это напоминает историю из юности. Когда я был первокурсником, мы с приятелем ходили в спортзал. Там были небольшие футбольные ворота, шириной метра полтора. Я от балды, не целясь, пнул мяч – до цели было метров восемь. И не попал. А он говорит мне: «Если ты даже по маленьким воротам мажешь, как же ты в большие попадешь?». Также и ты: «маленькая дорога», «большая дорога».
– Да там пломба февральская, что он с ней делать будет? Не рискуйте Вы зазря, обойдитесь обычной Рулеткой.
– У меня нет двух дней на расшифровку числовых значений, и достойного крупье найти сложнее, чем стрелочника. Ты не всё знаешь о Грушевском. У меня долг перед ним. К тому же «Дорога» наглядна, она дает информацию здесь и сейчас.
– А если ключ к разгадке лежит за пределами города?
– Лучше ложный след, чем никакого. Еду к нему. Звони Барабашу.
Не дожидаясь возражений Драгомарецкой, Игнатов прервал разговор.
Через сорок минут Игнатов вошел в комнату Грушевского. Состояние и хозяина, и жилища были одинаково плачевны.
– Вы всё пьете, Павел Вениаминович… – Игнатов укорительно покачал головой.
– Ты кто такой, сучара, чтобы меня жизни учить, а? Я… я стрелочник с сорокалетним стажем! – Грушевский осекся, в красных глазах показались слезы. – Был стрелочником…
– Вы и сейчас стрелочник. Для меня. Но я пришел не чтобы делать Вам реверансы. Я хочу предложить Вам работу. Опасную. Сегодня. С момента предыдущего запуска трех месяцев не прошло.
Грушевский зло усмехнулся, небрежно улегся на тахту, заправленную несвежим бельем, закурил ловко вынутую из пачки сигарету «Treasurer».
– Чьей сборки «Дорога»? Made in Romania не предлагать, – Грушевский спародировал цыганские ужимки.
– Предложу. Она верой и правдой служит мне седьмой год. Хватит паясничать, Павел Вениаминович. Я всё понимаю, я сочувствую Вам. Но поймите: Антипов в ногах валялся у Кирсанова, чтобы сохранить Вас в штате Балтийского вокзала. Шнайдер предлагал серьезные деньги Гуриновичу. Шатура писал письма ко всем мастерам Вашей гильдии. Кто стоял за всем этим, как думаете?
– Ты, песик легавый, мне в благодетели не набивайся! Ты сначала ссоришь меня с Розенталем, потом светишь просроченную пломбу при Дверницком, а потом… В ноги мне падайте, Павел Вениаминович, жопу мою мусорскую вылизывайте, языком вниз, языком вверх, дышите ровно, втягивайте глубоко, так?
Речь Грушевского прервалась, лицо исказилось гримасой боли.
– Профессиональное… Стопы изнашиваются от хождения по шпалам, по каменной насыпи. Сосуды в ногах портятся, – он кивком головы указал Игнатову на свои ноги.
Юрий сел на тахту, снял с Грушевского носки и принялся аккуратно массировать стопы.
– Тебе, милочка, не понять, что это такое – знать, что твоя трудовая книжка лежит не в отделе кадров, а в собственной тумбочке. Не понять тебе, каково… Тебе восемнадцать, ты на третьем году железнодорожного техникума, на практике. Мастер говорит тебе: «Хороший ты парень, Пашка. Приезжай ко мне вечером, я тебе макет один покажу». Приезжаешь к нему, а там… Карта Ленинграда расстелена, а на ней бесконечные рельсы сооружены, составчики едут. Ты спрашиваешь, мол, откуда столько дорог-то в городе, и почему одних вокзалов три десятка… Не сразу всё тебе показывают. Только к тридцати я начал сам запускать. Помню первый раз – парторг обратился. Времена были перестроечные, уже гадалки появились, секты пошли, церкви открывались – было где искать утешения и помощи. Он сказал, что всё перепробовал, но жену найти не может. Ушла и не пришла, органы руками разводят. Я и запустил составы. Минута – три столкновения. Потом два контрольных, три ложных – один вариант и остался, как учили. А что толку – как искать-то? Тогда уже милиция зубы на полку положила, денег едва на бензин хватало, майоры мешком ходили. Некому искать было, хотя место мы выяснили точно – составы столкнулись на пустыре. Потом уже, лет десять назад в городе трассу новую прокладывали, скелетик нашли…
– Какая несправедливость, что Вас – Вас! – убрали, а формалистов типа Кривоконевой или Деменко оставляют до гробовой доски.
Грушевский мягко улыбнулся.
– Да нет, как раз справедливо вполне. Устав, – он развел руками. – Сам клятву давал, сам кровью в общий сосуд капал. Просто натура слабая, хули там, мамка с бабкой воспитывали, мол, страждущих отказом обидеть – всё равно что хлеб у бездомного вырвать. Вот и пошел вкривь и вкось. У кого дорога самопальная, у кого пломба белорусская, кто два дня подряд решает нервы пощекотать. Правила обходил я, в общем, но не борзел. Один человек в авторитете, помню, три дня подряд требовал запуска – сумму отваливал такую, что даже на новый вокзал хватило бы. Я выгнал его к чёртовой мамушке. А он к другому сунулся.
– К Виктюкову?