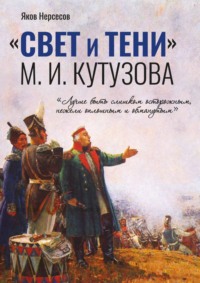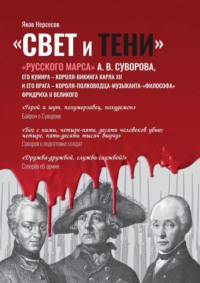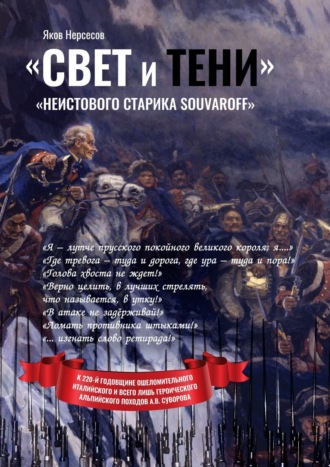
Полная версия
«Свет и Тени» «неистового старика Souvaroff»
Семилетняя война дала Суворову не только некоторое повышение в чинах, но и огромный опыт, позволив на деле – в кровопролитных сражениях – познать тактико-технические характеристики лучшей европейской армией той поры – прусского короля-полководца Фридриха II Великого. Он очень внимательно изучил его боевое искусство, чья неувядаемая на протяжении всего XVIII века слава не давала покоя болезненно-амбициозному Александру Васильевичу до самой смерти.
Дело доходило до смешного, когда непобедимый «русский Марс» и на склоне лет – к месту и не к месту – горделиво напоминал всем: «…Я – лутче Прусского покойного великого короля; я, милостью Божиею, батальи не проигрывал». Впрочем, так бывает и с гениями, в том числе. Тем более, что «на войне – как на войне» с ее морем крови, – своей и чужой, смертями «бес числа», своими и чужими… И эту «идиому», повторять которую придется еще не один раз, не принимать нельзя: войн без крови и жертв не будет никогда.
Именно Семилетняя война позволила ему убедиться в истинном патриотизме, стойкости, мужестве и уникальной способности переносить любые лишения русского солдата, при умелом использовании которого можно бить любого противника, если вести войну с ним решительно и быстро. Но пройдут годы, прежде чем его понимание военного искусства – «глазомер, быстрота и натиск» и «Наука побеждать» – получат всеобщее признание и Суворов навсегда войдет в избранный круг величайших полководцев в истории человечества своей неповторимостью и непобедимостью. (или глазомер, инициатива, время)
Глава 2. «Наука побеждать»
После Семилетней войны Суворов по воле императрицы Екатерины стал полковником (26.VIII.1762) и командиром (с 31.VIII.1762) Астраханского пехотного полка, остававшегося в Петербурге для поддержания порядка, пока императрица отбывала на коронацию в Москву. Казалось, на 33-м году жизни Александр Васильевич, наконец получил возможность создать воинскую часть своей мечты – образцовую во всей армии по своим тактико-техническим характеристикам, но не успел…
…, по некоторым данным в том полку в ту пору несла службу капитаном будущая другая «икона» русского полководческого искусства – Михаил Илларионович Кутузов. Правда, не все историки согласны с тем, что уже тогда могла произойти встреча этих двух самых известных полководцев российской империи. Дело в том, что Кутузов там числился командиром роты, но состоя флигель-адьютантом принца Гольштейн-Бека, редко бывал в полку, а Суворов вскоре получил под свою команду Суздальский полк. Тем более, вызывает сомнения, что между ними потом установились особо дружеские отношения. Скорее всего, это было нечто похожее на «благородное соперничество»: оба были людьми отнюдь «непрозрачными», даже непроницаемыми, умело прикрывавшими свою закрытость разного рода приемами – один неповторимым шутовством и скоморошеством, другой – исключительной любезностью и галантностью. Тем более, что «бесхитростный» Александр Васильевич всю жизнь исключительно жестко придерживался стратегической линии поведения со всеми возможными конкурентами в борьбе за славу первого полководца своего времени, сформулированной позднее «негаданно пригретым славой» победителем самого Наполеона Бонапарта сэром Артуром Уэлсли герцогом Веллингтоном, что-то типа: «На Олимпе нет места для двоих!» . Александр Васильевич на пушечный выстрел никого не подпускал к «себе любимому» в вопросах полководческой славы! Да и Михаил Илларионович придерживался примерно такой же позиции, только проводил ее в жизнь не столь прямолинейно и вызывающе-оскорбительно, а очень витиевато и за глаза. Такой «расклад» среди военных существовал во все времена: воинская (полководческая) слава, купленная кровью, увечьем и смертями никогда не делилась на двоих! Между тем, у Суворова было чему поучиться: смелости, решительности, находчивости, инициативности, хладнокровию в критических моментах боя и самому главному, умению побеждать не числом, а умением.Правда, уже много позже Кутузов, анализируя ошибки Суворова, очевидцем (?) которых ему посчастливилось быть , сделал для себя далеко идущий вывод: талант, дерзость и отвага не всегда приносят на войне положительный конечный результат. Его полководческое кредо было несколько иного формата, но это уже тема другого повествования, и Между прочим (или «На вершине нет друзей!») (с одной стороны «братьев по оружию», с другой – всего лишь «коллег по смертельному ремеслу») (например, нескоординированная с высшим начальством неудачная атака турок под стенами Очакова) с которым пытливый читатель мог познакомиться на страницах моих книг о Кутузове: (т. е. Кутузов до Отечественной войны 1812 г.) (т.е. роль Михаила Илларионовича в «Грозу 1812 года»)… «Свет и Тени» М. И. Кутузова «Свет и Тени» Спасителя Отечества М. И. Кутузова
Спустя семь месяцев (6 апреля 1763 г.) его перевели командовать дислоцировавшимся в Новой Ладоге, Суздальским мушкетерским полком, причем, на целых пять лет. Очень быстро он превратил полк суздальцев в один из лучших в русской армии, а о его «чудачествах» начали судачить в армейских кругах. Суворов, часто поднимал свой полк по тревоге в любое время суток, водил днем и ночью вброд и вплавь через реки, без дорог, через густые леса, холмы и овраги, в любую погоду, учил преодолевать любые, неожиданно возникающие трудности. При этом он сам во всем подавал пример для подражания.
Независимо от погодных условий пехотный полк Суворова уходил без обозов на учения, форсируя реки, совершая изнурительные марш-броски по целине, лесам и болотам, с риском для жизни обучаясь штыковому бою и прицельному залповому огню.
Признавая этот вид стрельбы только с близкой дистанции, Суворов отдавал предпочтение штыковому удару. «При всяком случае наивреднее неприятелю страшный ему наш штык, которым наши солдаты исправнее всех на свете работают» – учил Суворов. Искусно владеющий штыком и меткой пулей боец – говорил Суворов – обладал в любом бою «двумя смертями», особенно когда приходилось биться с преобладающим численно врагом. «Береги пулю в дуле! – поучал он солдат. – Трое наскочат – первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!» (более или менее убойной) (: коллективная резня в строю штыками, на которые остервенело наматывают друг другу кишки, близка крепким русским мужикам, поскольку она психологически и эмоционально подобна их любимому развлечению на пьяную голову: – стенка на стенку – до крови и… ) И был во многом прав кулачному бою насмерть.
…, знаменитое его наставление один из его учеников (?) Петр Иванович Багратион весьма остроумно переиначил на свой лад пуля штык. Но в веках остался жить суворовский афоризм: Между прочим «пуля – дура, штык – молодец!», « – баба, – удалец!» копия, пусть даже талантливая, всегда хуже оригинала…
!) …Рассказывали, что якобы однажды он приказал своему полку ночью штурмовать монастырь, мимо которого они шли, до смерти перепугав его обитателей. Разгневанные священнослужители пожаловались матушке-императрице Екатерине II на «проказника». Она лишь рассмеялась, пообещав пожурить своего полковника при встрече, но вскоре об этом забыла и впредь на подобные жалобы на Суворова смотрела сквозь пальцы, мудро полагая, что поучать военных бессмысленно: главное чтобы они на войне умели побеждать, но, !!! ( не дай Бог, не повернули бы свои ружья и штыки против… ТЕБЯ ЛЮБИМОЙ (ОГО) Это, кстати, главная забота всех авторитарных правителей и «персоналистических» режимов: вот почему они так рьяно «обихаживают» все свои силовые структуры и армию, в первую очередь
Впрочем, не исключено, что это – столь присущая для рассказов о суворовском чудачестве байка, не имеющая подтверждений в исторических источниках.
На самом деле Суворов со своими суздальцами наглядно показал императрице, которая «все знала-все видела», на затеянных ею грандиозных Красносельских маневрах 15 июня 1765 г… каковы его солдаты в деле,
Очевидцы рассказывали, что сражение разыгрывалось по общепринятым европейским правилам ведения боя той поры. В присутствии самой Екатерины Суворов неожиданно приказал своему полку прекратить ружейную перестрелку, вывел его из линии, на штыках ворвался в центр «вражеского» построения, смешал его боевые порядки, спутал все планы и обратил «неприятеля» в… повальное бегство. Свита императрицы громко возмущалась «новаторством» полковника Суворова, а она, наоборот, хлопала в ладоши довольная тем, что именно «ее» войска ( ) выиграли маневры. суворовский полк «воевал» на стороне Екатерины; не потому ли Александр Васильевич рискнул так лихо разыграть своего «джокера»!?
Суворов продемонстрировал своей императрице, как он собирается побеждать врага и она не дала его в обиду за самоуправство на маневрах, сказав: «Это мой собственный будущий генерал!» и присвоила ему 22 сентября 1768 г. бригадирский чин (промежуточное звание между полковником и генералом).
Не исключено, что не все в этой истории – быль, что-то могло быть и «приукрашено» поздними «летописцами» -биографами «русского Марса». Без апологетического приукрашивания не обходится ни одна великая биография!
Итак, Александр Васильевич Суворов – еще не всероссийская знаменитость, но у него уже репутация одного из самых толковых и рисковых военачальников российской армии…
Суворов категорически не переносил отступления. Слово «ретирада» (отступление) он произносил, зажмурившись и нараспев.
… одна из многочисленных суворовских баек гласит: как-то раз Суворов спросил у одного офицера, что такое ретирада!? Офицер брякнул, что не знает, однако, видя, что Суворов уже готов сорваться на бешеный крик фальцетом, столь присущий ему, когда было не так, нашелся: «В нашем полку это слово неизвестно». «Очень хороший полк» – помягчел, уже готовый было взорваться, по-восточному темпераментный Суворов… Кстати, что-то (сказывались армянские корни матери?)
Наотрез отказываясь обучать войска приемам отступления, он, порой, бывал опрокинут в бою (и поляками, и турками, и французами), но так до конца жизни и не признал отступление, как вид обороны.
…, вроде бы среди вымуштрованных на правильных тактических схемах австрийских и прусских генералов-современников Суворова ходили разговоры, что «не знающего тактики» непобедимого «русского Марса» «! Но для этого надо успеть расстроить ряды его атакующих солдат и заставить отступить, потому что они этому не обучены, а отступление, как известно, самый сложный вид боя. Сделать это можно, глубокомысленно полагали они, только заманив русских, под удар ложной ретирадой либо очень сильным огнем, который не допустит их сокрушительного штыкового удара. Парадоксально, но на деле (в бою) так никто не сумел воспользоваться этими ценными, … Между прочим в принципе» можно победить но сугубо теоретическими советами
Во время учений Суворов всегда стремившийся к тому, чтобы каждый солдат понимал свой маневр, применял максимально жестокий способ обучения атаки.
Его сквозные штыковые атаки, когда два батальона шли в штыки друг против друга с непривычки вызывали ужас, как у очевидцев, так и у участников. При ударе в штыки Суворов приказывал , ни на секунду не задерживаться. При этом, как бы силен не был удар, он не позволял его отойти и только в самый последний миг следовало поднять вверх штыки. наступающим отражающим
, . Порой, не всегда это получалось и кое-кто получал раны иногда смертельные
на протяжении всей военной карьеры Суворова – Зато так вырабатывалась техника штыкового боя бывшая его главным и неотразимым оружием в борьбе с вражескими армиями.
победному – — удару … , особая приверженность Александра Васильевича Суворова именно к штыковому бою легко объяснима. Качество стрелкового оружия той поры позволяло добиться лишь 10% точности попадания на расстоянии 300 шагов. Эффект от залпового огня достигался на расстоянии с 60 – 80 шагов, которое Суворов рассчитывал легко преодолеть за счет стремительного броска своей пехоты, штыковым ударом обязанной сметать вражеских стрелков, готовившихся к новому залпу. Кроме того, он, повторимся (!), учитывал характерную национальную склонность русского человека к рукопашному бою – ! Александр Васильевич постарался приспособить русскую удаль в особый воинский навык – ! Более того, Суворов, не без оснований, полагал, что простого крестьянина, насильно отлученного от сохи, легче обучить не многообразию действий в скоротечном бою, а одному единственному средству: ! Главным было научить своих солдат перебороть страх перед вражеским залпом и бежать вперед со штыками наперевес. Именно поэтому он так любил повторять: «Пуля – дура, штык – молодец!», добавляя при этом – «Сколько пуль пролетает мимо во время боя! А штык, в умелых руках, „не обмишулится“». Действительно, обученный штыковому бою солдат успевал поразить 2—4 противников. Суворов утверждал: «А я и больше видывал!» Впрочем, для штыкового боя требовалась особая психологическая устойчивость и не все солдаты Европы той поры были к нему пригодны… Между прочим жажду помахаться всласть штыковой удар штыковому
Не менее впечатляюще проходили и учебные кавалерийские атаки против пехоты. Пехота с ружьями, заряженными холостыми патронами, выстраивалась напротив кавалерии так, чтобы каждый стрелок находился от другого на таком расстоянии, которое было нужно одной лошади для проскока между ними. Позади строя ставились лукошки с овсом, чтобы прорывающиеся сквозь строй людей кони знали, что за ним их ждет «награда» -лакомство. Потом он приказывал кавалерии идти в атаку галопом с саблями и палашами наголо.
Пехота стреляла именно в тот момент, когда всадники проносились на полном ходу сквозь стреляющий строй.
После многократного повторения этого сложного и опасного маневра лошади так приучались к выстрелам прямо в морды, что сами неслись на паливших в них стрелков, чтобы как можно скорее закончился весь этот ужас и они прорывались к лукошкам с овсом.
Для пехотинцев такие учения обходились, порой, очень плохо – смертельно.
плохо выезженныхпорой, те вставали не там, где следовало От дыма ружейных выстрелов, от лихости либо неумения кавалеристов или от горячности напуганных ( ) лошадей, проносившихся сразу по несколько в один проем между стрелками ( ), кое-кто в пехотном фронте получал тяжелое увечье либо просто погибал затоптанный конницей.
: чтобы выучить пехотинцев выдерживать неистовый кавалерийский натиск, он намеренно усложнял учение. Строй пехотинцев смыкался и размыкался только в самый последний момент, чтобы пропустить сквозь свои ряды несущихся всадников с саблями и палашами наголо. В этом случае потери были еще больше. А в рядах кавалерии, атакующей пехотное каре не должно было перед его фронтом быть заминок, иначе вся масса всадников превращалась в прекрасную мишень для дружного ружейного огня в упор. Суворова это не останавливало
(порой, приписываемую ему, и его «коллегам по ремеслу») Когда Суворову доносили о количестве затоптанных солдат, он по-армейски сухо отвечал: Затоптанных было жаль, но, не выучив тех и других столь жестоким, но единственно реальным способом, Главным в бою он считал смекалку, а потому и не жалел солдатиков, приговаривая: «Тяжело – в учении, легко – в бою!» Нам доподлинно неизвестно, добавлял ли он при этом «Бог с ними, четыре, пять, десять человеков убью; четыре, пять, десять тысяч выучу!» на поле боя он нес бы гораздо большие потери. цинично-философскую сентенцию в духе (до сих пор в понимании многих мужчин: «Ничего, солдатиков русские бабы еще нарожа`ють!» , но она емко и доходчиво объясняет суть войны – «a la guerre comme a la guerre»… «женщине – р`одить, что курице – яйцо сн`есть!!!»)
… , Александр Васильевич любил проверять усвоенные навыки штыкового боя совершенно неожиданно для своих солдат. Например, он часто внезапно направлял своего коня прямо в самую гущу идущей колонны войск. Когда молоденькие солдатики почтительно расступались перед лошадью командующего, он приходил в бешенство и пронзительно взвизгивая – «Службы не знаете!!!» – гнал скакуна прямо на старослужащих, которые мгновенно смыкали свои ряды и лихо и умело брали Ляксандра Васильича «на штыки» вместе с его конем, приводя его своей сноровкой в неописуемый восторг! Его «молодцы-удальцы» постоянно готовы достойно встретить атакующую кавалерию! После суворовских маневров с их кровавыми увечьями и смертями – бой для русских солдат не представлял ничего нового… Между прочим
Так за годы командования (с 1763 по 1769 гг.) Суздальским пехотным полком в Новой Ладоге А. В. Суворовым были заложены и опробованы на практике (еще не в бою, а всего лишь на учениях) основы его знаменитого потом «Полкового учреждения» (1764—1765) – инструкции, содержавшей основные положения и правила по воспитанию солдат, внутренней службе и боевой подготовке войск.
Конечно, методы обучения Суворова поражали современников, но, его результат оправдывал средства, а , в этой суровой «науке побеждать» наш великий соотечественник не был новатором! Вспомним, что примерно так же обучал своих солдат и выдающийся полководец рубежа XVII/XVIII вв. шведский король-«последний викинг» Карл XII, которого дико амбициозный и болезненно самолюбивый Александр Васильевич на редкость сильно уважал и кое в чем даже ему подражал. Видел родственную натуру!? во-первых, во-вторых (он так и не проиграл ни одного серьезного сражения!)
Дисциплина, которую он сам строго соблюдал и требовал соблюдать других, основывалась не на «палочных» методах прусского короля Фридриха II, а на совести, воле, разуме, хотя за грабежи, дезертирство и мародерство Суворов, так же, как и другие русские командиры той поры, прогонял сквозь строй. Причем, если дворян били по спине «фухтелем» (плашмя клинком), то простых солдат – палкой.
«На войне – как на войне!
И последнее на тему суздальского периода в биографии «русского Марса». Именно к этому периоду относятся свидетельства о его весьма кокетливой переписке с некой «милой моей Амалией» – молодой Луизой Ивановной Кульневой, замужней дамой и матерью знаменитого потом кавалериста-гусара, генерал-лейтенанта Якова Петровича Кульнева (1763—1812) – почитателя и соратника Суворова.
Глава 3. Как бригадир Суворов в Польше «руку набивал»
Уже в чине бригадира предстояло Суворову с его суздальцами направиться в составе 10-тысячного корпуса генерала-поручика Ивана Петровича Нумерса в бунтующую Речь Посполиту (Польшу).
…то, что творилось тогда в Польше, назвать очень трудно. Это был всего лишь бунт, а настоящая война разгорелась далеко на юге – с Оттоманской Портой. Об участии и роли Суворова в подавлении польской смуты рассказывали по-разному, не всегда объективно. А ведь именно там самый знаменитый русский полководец «обкатывал свои оригинальные тактические приемы» или, проще говоря, «набивал руку» на бунташных поляках… Кстати сказать, войной
Бурлить она начала еще со времен смерти 5 октября 1763 г. короля Августа III и проведения через сейм с помощью князей Чарторыжских и других влиятельных лиц под патронажем российского посла в Польше князя Н. В. Репнина, подкрепленного русскими штыками на польский престол ставленника и экс-любовника российской императрицы Екатерины II графа Станислава Понятовского под именем Станислава-Августа IV. В Петербурге сильно обрадовались, что все прошло очень спокойно. Екатерина даже написала графу Никите ИвановичуПанину (15/18 [29].9.1718, Данциг /Гданьск, Гданьский повет, Поморское воеводство, Великопольская провинция – 31.3. [11.4.] 1783, Санкт-Петербург): «Поздравляю вас с королем, которого мы сделали», но, как вскоре оказалось, не все владетельные паны оказались им довольны. Более того, польско-литовскую римско-католическую шляхту, сильно раздражало большое влияние России, которая добилась в Речи Посполитой уравнения в правах так называемых «диссидентов» (некатоликов).
29 февраля 1768 г. паны собрались в пограничном городке (местечке) Баре на Подолии (совр. Винницкая обл. Украины), где образовали конфедерацию и начались боевые действия против русских, православного населения Польши и сторонников короля Станислава. Зачастую за спиной конфедератов ) маячили внешние силы (в частности, Турция и Франция). По началу, король пытался с ними договориться, но когда те объявили «бескоролевье» он обратился к Екатерине II за помощью «обратить войска, находившиеся в Польше, на укрощение мятежников». (во главе которых стояли епископ Михал Красиньский и адвокат Юзеф Пулавский с сыновьями (угрожая Понятовскому свержением),
А ведь российской императрице было в ту пору не до поляков – она затеяла в свою первую войну с турками. Ее самые боеспособные силы выдвигались против басурман на основной театр военных действий: 1-я армия князя Голицына (ок. 65 тыс.) – на Хотин, 2-я армия Румянцева (ок. 43 тыс.) – на Крым и устье Днепра, вспомогательный корпус Олица (до 13 тыс.) ожидал специального назначения. Поскольку приходилось еще выделять войска и на Северный Кавказ и в Грузию, то императрица не могла послать в Польшу достаточные силы для широкомасштабных операций по очищению больших районов путем их окружения и тщательного прочесывания. Пришлось довольствоваться лишь небольшими стычками. Тем более, что силы конфедератов, как правило, насчитывали не более 5 тыс. чел. (или, все же, оказалась втянута?)
Нет смысла вникать во все тонкости военно-политической ситуации до появления в Польше регулярных войск российской империи: сосредоточимся на роли Суворова в усмирении поляков.
15 ноября 1768 г. бригадир А. В. Суворов вместе с Суздальским полком вышел из Новой Ладоги и за месяц прошел () по распутице, ремонтируя переправы, порядка 927 км, придя в Смоленск. Глава военного ведомства фельдмаршал граф Захарий Григорьевич Чернышёв (18.4.1722 – 29.8.1784) выразил ему свое восхищение образцово проделанным походом: потерянными оказались всего лишь пятеро – трое попали в лазарет, один умер и еще один дезертировал. частично, перевез на подводах До конца жизни Александр Васильевич гордился тем, что сумел провести полк почти без потерь.
В Смоленске ему поручили переподготовку прибывающих войск
… о своем вынужденном «смоленском сидении» А. В. Суворов сообщал весьма игриво: «Здесь жить весьма весело. Нежный пол очень хорош, ласков…» Эти строки весьма отличаются от того, что он писал в том же 1768 г. из Старой Ладоги, жалуясь на беспокойство от «девиц престарелых», уверяя, что «сим светящимся невестам на выкуп их морщин не дал бы и 10 тысяч рублей». Если все это – так, то будущий «русский Марс», которому в ту пору уже стукнуло 38 лет вполне мог жениться . Но видно, ни одна из смоленских прелестниц так и не преуспела в охмурении-окручивании Александра Васильевича и он пошел на… войну, а не в отставку (!) в связи со свадьбой! А ведь в ту пору офицеру в чине не ниже полковника полагалось быть женатым. «Полковница» была «матерью полка», помогавшей мужу в его непростой службе. Суворов знал такие семьи и видел, какова в них роль супруг-«боевых подруг». Но, судя по его судьбе, ему самому с женой не повезло, но об этом чуть позже… Кстати, (тем более, что на этом настаивал его отец) (Не путать с «ППЖ – походно-полевыми „женами“», явлением весьма распространенным и вполне понятным во все времена.)
Через полгода, пополнив свой отряд Смоленским и Нижегородским пехотными (мушкетерскими) полками, он отправляется в Польшу для участия в военных действиях против войск шляхетской Барской конфедерации () и уже в начале-середине августа ускоренными переходами выступает к Брест-Литовску. Поход в Польшу продемонстрировал результаты обучения солдат по-суворовски: «Марш был кончен ровно в две недели, – рапортовал он своему начальству – без умерших и больных, с подмогой обывательских подвод». А ведь это без малого 600 км. () направленной против короля Станислава Понятовского и России Правда, по некоторым данным шесть человек все же заболели.