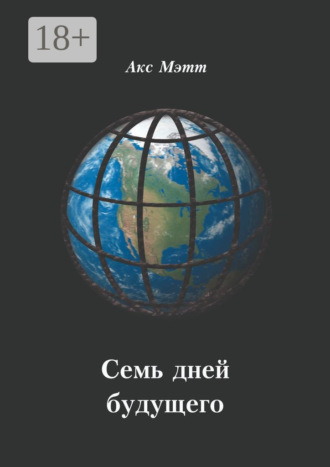
Полная версия
Семь дней будущего
Деревянные горы
13.03.2030, 4 часа ночи (местного времени).Северный Ледовитый океан.Новосибирский архипелаг29 часов до временной отсечки «Х»Медленно, очень медленно наползала чёрная тень на прибрежную отмель…
Неслышно скользя под припайным льдом в миле от берега, огромная, почти плоская лента плавно изменила вертикальное положение на горизонтальное. И уже так, плашмя, слегка извиваясь, точно невероятная минога, продолжила своё таинственное движение.
Остров был метрах в трёхстах, когда глубина под брюхом неведомого обитателя глубин закончилась, и нижний вертикальный плавник то и дело чиркал по неровному скалистому дну, отчего вся громадная плоская туша глухо содрогалась в резонансе. Внешне ЭТО напоминало огромную широкую доску для сёрфинга, глянцево-чёрную, почти в шестьдесят метров длины, но с неожиданно большим утолщением на самом носу и вертикальным, как у акулы, хвостом. Вся разница была лишь в том, что хвостовой плавник большей своею частью был отклонен вниз, и теперь, когда он практически упёрся в дно, дальше продолжать движение незамеченным возможности уже не было. Огромное нечто остановилось и очень плавно и тихо полностью опустилось на грунт…
Абсолютно беззвучно, без пузырей и всплесков от странного объекта отошли два более мелких, по форме и цвету почти копии большого. Такие же плоские и чёрные. Они стремительно направились к острову, а достигнув его, без особых усилий взломали толстый прибрежный сплочённый лёд, рассыпав при этом по его поверхности два коротких снопа голубоватых искр. И уже, явно опасаясь быть обнаруженными в ненадежной оранжево-лиловой пелене густых сумерек, крайне осторожно, но быстро поползли по прибрежной смеси гальки и крупного песка; чуть извиваясь гибкими телами и стремясь как можно быстрее и незаметнее достигнуть глубоких сугробов…
От самого мыса Барроу, что на севере Аляски, и до мыса Челюскин полуострова Таймыр раскинулось гигантское поле Арктического шельфа. Почти пять миллионов квадратных километров ровного подводного плато – напоминание о беспредельных по размерам территориях подтопленного в незапамятные времена мега-материка. Шельфовый стол дна в этой части Ледовитого океана абсолютно однообразен и по структуре и по глубине: на многие сотни миль вдоль бесконечного северного побережья Восточной Сибири исследовательское судно обнаружит под ватерлинией лишь немногим более тридцати-сорока метров воды. Во многих местах и вовсе около пятнадцати. Ни укрыться, ни спрятаться крупному подводному объекту не удастся: огромное поле для гольфа, каждый игрок на котором прекрасно видит и слышит, куда, в какую лунку был послан мяч.
Несколько лет назад, из-за стремительного и безудержно накатившего на арктические зоны глобального потепления, Северный морской путь стал практически круглогодичным. Мощный современный ледокольный флот хозяина здешних морей – России и глобальное изменение климата, не договариваясь, помогая друг другу, превратили его в шикарную трансконтинентальную трассу, настолько скоростную, что суда с Дальнего Востока проходили по нему в Атлантику почти в два раза быстрее, чем южным маршрутом, через Суэцкий канал. За навигацию же и безопасность вдоль всего пути следования отвечали многочисленные посты береговой охраны, снабжённые новейшими вооружёнными спасательными судами ледового класса, и военные базы, разбросанные тут и там по всей Арктике. Возведённые по самым современным, практически космическим технологиям знаменитые арктические «трилистники» Министерства обороны России, не смотря на лютый холод, расцветали теперь буйным цветом и на материковой части, и на многочисленных океанических островах – в зонах территориальных интересов Федерации. 12
Вот одним из таких наиболее оживлённых и востребованных мест в Арктике стал теперь архипелаг Новосибирских островов. Открытый русскими мореплавателями ещё в восемнадцатом веке, он был представлен миру при загадочных, почти мистических обстоятельствах: якобы именно отсюда знаменитый промышленник и предприниматель, ярый радетель государственного освоения арктических территорий Яков Санников в 1810 году увидел далеко на севере «дымы загадочной земли», впоследствии названной его именем… 13
Таинственного материка, сколько не искали впоследствии, так и не нашли, а вот территории в этих местах Ледовитого океана попутно изучили хорошо. А теперь и осваивали вовсю.
На острове Новая Сибирь, в отличие от соседнего острова Котельного, не стали строить крупных объектов Министерства обороны и серьёзной инфраструктуры. Он сохранил практически первозданный ландшафт, похожий на вогнутое к центру блюдо, многочисленные реки и озёра. И теперь целиком был отдан на освоение разношёрстной научной братии: Российской академии наук, различным НИИ, экспедициям геологоразведки и палеонтологам. Пролив Благовещенский, разделивший два этих крупнейших острова архипелага, в самом узком месте имел серьёзных тридцать два километра, поэтому на летний период наладили воздушное сообщение между ними и материком. На Котельном быстро отстроили заново красавец-аэродром «Темп», возведенный здесь ещё в советские времена, но затем незаслуженно заброшенный, превратив его теперь в стратегический – способный принимать любые типы самолётов. Даже сверхтяжёлые транспортники. А вот на соседнем «заповеднике» оборудовали лишь стационарную вертолётную площадку, да и то придали её небольшой мобильной Станции ракетного зондирования атмосферы (СРЗА). Объект стал полновластным наследником скромной метеостанции, расположенной здесь ещё в двадцатом веке и так же, как и она, получил странное, почти романтическое название «Утёс Деревянных гор». 14
Широты, на которых был расположен архипелаг, всегда отличались суровым нравом: девять месяцев в году здесь лежал снег, и при желании, на материк можно было прокатиться по ледяному «мосту», связывавшему острова с большой землёй с осени по весну включительно, прямо на вездеходе. А у местного лета были свои причуды: хорошо, если околонулевая температура, промозглые моросящие дожди с пробирающим насквозь ветром. Но чаще и этого не получалось. Погода и раньше-то не баловала решившихся обосноваться здесь, а с наступлением серьёзных климатических изменений на всей планете всё чаще и чаще стали наваливаться внезапные запредельные шторма и безудержные вихри. Мир безвозвратно менялся прямо на глазах. И это было уже необратимо.
Снежные бураны неожиданно в ночь засыпали трёхметровыми сугробами всё вокруг, чтобы на следующий день яростные ветры подняли всё это белое безумие и унесли далеко на материк, развеяв там над бескрайними просторами Сибири. Такие бури могли бушевать по неделям, а могли проходить и одним днём. Метеорологи и сейсмологи трудились здесь, не покладая рук, запуская в небо аэростаты и исследовательские дроны, производя хронометраж, различные замеры и анализ геомагнитной обстановки, пытаясь дать точные прогнозы хотя бы на сутки-двое. Их работа была крайне необходима и как никогда важна для всех жителей Арктики.
Но были на станции и другие специалисты, деятельность которых надёжно скрывалась на жёстких компьютерных дисках, сдаваемых ими ежесменно в сейф «особисту», и которую никто из них никогда не обсуждал в присутствии посторонних…
Вот и теперь, в столь позднее время, вернее в этом случае сказать раннее, на СРЗА «Утёс Деревянных гор» кипела работа. Готовились к практической отработке регламента запуска новейшей, самой мощной из имеющихся на сегодняшний день, геофизической резонирующей ракеты. Если расчёты окажутся правильными, эти ракеты смогут успешно противостоять, нейтрализуя их ещё в зарождении, гигантским вихрям и торнадо, которые всё чаще и чаще стали появляться над Сибирью. Там, где их отродясь не видали.
Вся станция, собственно говоря, представляла своеобразный шестиугольник, соединённый между собой гибкими сочленениями коридоров-гармошек. А в центре этой «соты», стоявшей на гидроопорных лыжах, находился круглый модуль с аппаратным залом управления запусками и координацией.
В нём и пребывала сейчас не только дежурная смена: семеро из десяти членов «Особой научной экспедиции номер два» бодрствовали – пятеро были заняты обсуждением технических данных запуска, а оставшиеся двое начинали потихоньку готовиться к отъезду. «Специалисты», в отличие от троих метеорологов, которые в своё время, задолго до остальных исходили здесь все окрестности «автоногами» и знали на острове каждый камешек (и теперь спокойно отдыхали у себя в импровизированном балке), были, что называется, людьми «пришлыми», и по острову пешком практически не передвигались, исследуя и осматривая его исключительно виртуально: сидя в центре координации за пультами управления дронами. Соответственно и нюансы острова Новая Сибирь им знакомы были не особенно. Да и много ли натопаешь по сугробам в полярную ночь за Полярным кругом…?
Само слово «станция», глядя на архитектуру и техническое оснащение именно этого объекта, должно было ассоциироваться отнюдь не с закопанными в снегу хлипкими деревянными сараюшками из дощатых щитов, обогреваемыми примитивными печками-буржуйками на дровах или угле, – что было обычным делом в прошлом веке – или, что ещё несуразнее, со снежными иглу. Возведённый здесь, пусть и небольшой арктический форпост воплотил в себе все современнейшие технологии, какие только имелись сейчас в наличии у российской науки. Бытовало, кстати, вполне обоснованное мнение, что, опираясь на опыт эксплуатации именно таких модульных городков, учёные-разработчики и технологи уже во всю делают жилые и рабочие городки для лунных и марсианских экспедиций! Ведь условия эксплуатации материалов и систем в Арктике по экстремальности лишь самую малость не дотягивают до космических! 15
А здесь, внутри такого компактного универсального комплекса, спроектированного, что называется, «по просьбам трудящихся» и оснащенного с учетом всех мыслимых и немыслимых ситуаций, можно было месяцами нормально жить, всецело отдаваясь любимой работе. Даже тренажёры и мини-бассейн не были чем-то экзотическим! Стены, имеющие приятную для глаз любого нормального человека салатово-зелёную окраску, и подсвеченные с разной интенсивностью и оттенками своды коридоров уютно провожали проходящего по ним зимовщика в небольшой, но вполне себе настоящий дендрариум! Сказочный сад настоящих деревьев и растений посреди вечного царства снега и льда! Малюсенький кусочек настоящей весны.
Весна! Наконец-то эта бесконечно-тягучая морозная темнота закончилась, и скоро они увидят свежую зелень молодой листвы в иллюминаторы экспедиционного турболёта, несущего их к дому. Настоящий природный зелёный цвет и солнечный свет были всю зимовку в большом дефиците. И даже обилие фруктов и овощей, что вместе с рабочими материалами регулярно доставлялись им с большой земли, не радовало глаз и душу так, как если бы человек просто коснулся руками обычной березовой ветки в весеннем лесу и всей грудью вдохнул этот слегка пьянящий аромат расцветающей жизни.
Поэтому, не смотря на строгость регламента проводимых сейчас работ, настроение у всей команды было лёгкое, почти предпраздничное и даже слегка бесшабашное. Уже на завтрашний день было назначено окончание всех работ и пересменок: с материка ждали борт с рабочими-ремонтниками и инженерами. Вновь предстояла масштабная модернизация оборудования и расширение площади станции.
Ребята не зря просидели на куске скалы посреди ледяных торосов полгода. Их работа здесь была оценена по достоинству на самом верху…
А эксперименты, проведённые далеко не только с сейсмографами и аэрозондами, признаны настоящим прорывом в науке и технологиях. В частности – технологии компонентов новейшего перспективного ракетного топлива…
Пока же люди собирались и упаковывали вещи. И не только технические средства, приборы и образцы, но и те милые сердцу безделушки, которые долгими полярными вечерами греют озябшую от долгой разлуки душу лучше любой печки. Кто-то снимал со стены фотографии, кто-то сортировал видеозаписи и аккуратно укладывал в контейнеры тетради рукописных дневников и рабочих материалов. Ничто не должно быть утеряно или забыто.
Объект «Утёс Деревянных гор» находился на ближайшей к материку, южной стороне Новой Сибири. Здесь год от года постепенно эррозирующие из-за таяния вечной мерзлоты и обрушающиеся в море берега не были такими крутыми и обрывистыми, в отличие от той стороны острова, что была обращена к Северному полюсу. Выход к морю был более удобным, а береговая полоса самой широкой и пологой. Стартовый стол для проведения пусков резонирующих атмосферных ракет отстоял от самой станции метров на двести и сообщался с ней буквально «подснежным» ходом: лёгкий арочный переход – собирался обычно осенью из составных модульных элементов, а затем его просто заваливало снегом до весны, и он становился почти подземным.
В этом году именно этот предстоящий пуск, как принято говорить у зимовщиков, будет крайним. Да и то учебным: вся предстартовая подготовка должна пройти штатно и без исключений, но вот рабочая кнопка зажигания и ключ электропитания старта будут заблокированы оператором, хотя ракета уже стояла на столе и находилась в направляющих. Таково было решение руководства, озвученное буквально на днях и вызванное, скорее всего, установившейся над регионом нормальной погодой. Старт должен был быть имитационным.
Как стало понятно после серьёзных исследований, тяжёлые резонирующие ракеты, снабжённые электромагнитными импульсными источниками ограниченной мощности, – очень хорошее и действенное средство не только для усмирения буйствующих смерчей и торнадо. Поднявшиеся в стратосферу, они способны локальным и строго заданным образом влиять на великие струйные течения, опоясывающие на этой высоте незримыми потоками всю нашу планету, течения, от которых зависят погода и сама жизнь на всей Земле. И, в отличие от той же самой HAARP на Аляске, делают они это весьма деликатно и контролируемо.
Человеку всегда казалось, что он способен взять под контроль те невероятной силы процессы, что происходят в трёх царствах природы: в воде, на земле и в воздухе. Стоит только написать новую, более совершенную программу или развернуть реки вспять, послать в ионосферу мощный электромагнитный импульс, и природа сразу признает себя побеждённой и сдастся на милость своего «царя».
Ровно так же думает неразумный ребёнок, только что вылезший из яслей и предъявляющий права на отцовское кресло. Такое неразумное ещё, но всегда любимое дитя…
Один из техников, только что закончив проверку предстартовой готовности комплекса и стремясь побыстрее покинуть неуютный, тускло освещенный и узкий тоннель, вбежал в помещение, едва захлопнув за собой дверь на электронном замке, не задвинул впопыхах изнутри механический засов, как этого требовала инструкция…
На этом острове, в отличие от соседнего Котельного, давным-давно уже не видели белых медведей – опаснейших хищников, фактических хозяев Арктики, способных быть смертельно опасными для человека. Их не было видно здесь по крайней мере уже лет двадцать. Зоологи опасались даже, что популяция этого красивого и умного зверя на грани исчезновения. Теперь, когда стали редкостью ушедшие дальше на север огромные плавучие поля пакового льда – основные места охоты медведей на моржей и тюленей, не стало и их самих. Росомаха с конца зимы ушла за оленьими стадами вглубь острова, площадь которого была совсем не маленькой – больше шести тысяч квадратных километров. А случайных людей в это время года на острове быть не могло. Чего ещё здесь было бояться? И на незадвинутый засов внимания никто так и не обратил…
Посреди зала стоял большой квадратный стол с проекционным горизонтальным голографическим 3D-дисплеем, на моделлере которого сейчас была изображена синоптическая картина происходящего в радиусе тысячи километров от этого места, в реальном времени: над малюсеньким клочком земли, в бескрайнем океане, покрытом ледяными полями торосов, клубились и колыхались огромные сгустки облаков, и закручивались гигантские воронки вихрей. Синоптическая информация поступала в компьютер отовсюду: с метеозондов, геофизических ракет, станций слежения и спутников. Анализировалась и систематизировалась, чтобы в виде объёмной голографической проекции предстать перед глазами запросивших её, что называется, он-лайн.
Всё представление было настолько реалистичным и динамичным, что бородатые люди в тёплых свитерах, стоявшие сейчас рядом со столом, смотрели на этот бесконечный интерактивный спектакль, режиссером которого была сама природа, с каким-то восхищенным благоговением. Чудесным образом они могли видеть, как в одной стороне карты стеной идут проливные ледяные дожди, – успевая за время путешествия к земле по несколько раз замерзнуть в ледышки и снова оттаять в капли воды, – а в противоположной – сумасшедший ветер откалывает гигантский кусок ледяного поля и несёт его прямо на другой, ещё больший, с тем, чтобы при встрече два гиганта схлестнулись и выставили напоказ обоюдоострые края своих мощных бивней-оконечностей. А в воздухе над ними ежесекундно колыхались и разбегались обрывки туч и клочья тумана. И то тут, то там мерцали зеленоватые всполохи северного сияния – следы горячего дыхания бессменного хранителя Земли – великой звезды Солнца.
– Так, наверное, смотрит сам Господь Бог с небес на своё любимое детище – планету Земля… – задумчиво теребя бороду, проговорил мужчина средних лет, сильно выделявшийся среди других своим богатырским ростом.
– Да… – согласно кивнул стоявший рядом зимовщик в длинном заношенном синем свитере крупной вязки, – Воистину впечатляет! Не первый раз уже наблюдаю это шоу, но каждый раз – с восхищением! Эта их новая мультисредная система объёмного сканирования – просто какая-то фантастика сегодняшнего дня…
– Чья система? Кого ты имеешь в виду? – удивился рослый бородач.
– Да наших соседей с Котельного, военных. Они уже месяц тестируют оборудование: «грибы» да «лопухи» РЛС не видел, что ли на сопках? Вот она и есть. А ты думал, откуда мы данные качаем? Вот, по-шефски помогают нам. Чай, не чужие, свои. – «Вязаный свитер» подмигнул бородатому и, снисходительно улыбнувшись, опять уставился на голограмму. 16
– А-а! – протянул здоровяк. – Теперь понятно, кто у нас здесь за Бога…
– Кто бы сомневался! – хохотнул «свитер».
– А вот это, что за тёмное продолговатое пятно у берега? Совсем рядом с нами! Такого я никогда раньше не видел, – ткнул пальцем в голограмму парень, видать, самый зоркий и наблюдательный из собравшихся.
– Да кит, наверное? – махнул рукой высокий бородач, совершенно не придавая в данный момент справедливому вопросу должного внимания.
– Ну, если только каким-то чудом его выбросило на отмель. Здесь ему даже нырнуть негде – рылом дно забодает, – подключился к разговору ещё один научный сотрудник, рыжий, сидевший за пультом управления ракетным пуском чуть поодаль и тестировавший все системы автоматики комплекса.
– Вообще-то, для кита, даже для синего, он больно уж большой, как минимум в два раза. Хотя для морских животных гигантизм нынче чуть ли не новомодный тренд, – с улыбкой проговорил обнаруживший аномалию бдительный зимовщик, сворачивая и складывая в тубус карты со стены.
– А я вот тут слыхал, что ихтиологи близки к разгадке массового выбрасывания на берег стай дельфинов и китов. – Рослый обошёл стол и встал поближе к тому месту, где было тёмное пятно предполагаемого «кита».
– Да-да! Точно! – даже вбежавший только что техник не удержался и нашёл всё-таки момент вставить свою скромную реплику в общий разговор:
– Я слышал, что сейчас такие непонятные явления заметно участились. Особенно в южной части Тихого океана. «Зелёные», чтобы спасти животных, тащат их обратно в море, а те с ослиным упрямством не хотят возвращаться. Вот так штука! Будто боятся там кого…
– Господи! Да кого же им там бояться? – искренне удивился бородач в поношенном свитере. – Сами, чай, не маленькие!
– Ну, тогда если только кого-то сильно плотоядного, – также задумчиво теребя бороду, проговорил великан. И, посмотрев на рядом стоявшего в заношенном свитере товарища, едва доходившего ему до груди, добавил:
– И кто явно крупнее их самих… – и опять с интересом возвратился к неподвижному тёмному объекту на голограмме.
Заинтригованный новой темой, народ в комнате заметно оживился, и, подняв головы от своих занятий, мужики смотрели теперь на выделяющегося габаритами коллегу, стараясь ничего не пропустить из его слов.
– Так вот, о чём это я, – возвращая разговор в своё русло, продолжил великан. – Было замечено, что непосредственно перед якобы массовой потерей ориентации морскими млекопитающими … – он подмигнул слушавшим его. – Ну, это по официальной версии, некие крупные объекты неизвестного типа или животные внезапно появляются у тех на дороге и отрезают им путь на глубину. Беднягам остаётся единственное – выброситься на отмель. Смогли рассмотреть лишь один такой объект более-менее чётко, и только на снимке из космоса.
– Ну и что это было? Несси, что ли? – коротко хохотнул рыжий, явно имея в виду легендарное лохнесское чудовище, наделавшее в своё время много шуму и принесшее неувядаемую славу тихому шотландскому захолустью, а заодно и поток фунтов стерлингов местным продавцам сувениров.
Рослый посмотрел на него снисходительно, как умудренный опытом преподаватель на студента-троечника:
– Сам ты – Несси! Нет, – покачав головой, он присел на стул. – Это было нечто очень похожее на огромный цилиндр, но с множеством гибких щупалец с одного конца. Думали сначала, что гигантский арктический кальмар, да только спруты под тридцать метров длиной, кракены, – это в сказках про пиратов. А вот в природе им просто некем было бы питаться, передохли бы, как голодные крысы, – снова покачал лохматой головой великан.
– Ну как же? А вот такими вот как раз китами и будут… э-э, питаться! – махнул рукой в сторону голограммы рыжий.
– А-а… – протянул кто-то из мужиков, – ясное дело, мутанты какие-нибудь. Свято место пусто не бывает! Каждый год на земле исчезают сотни видов животных. Ну, а эти – им на замену. Эволюция!
Последняя реплика вызвала у зимовщиков неодобрительный ропоток. Из угла послышался зычный голос. Обладателем его был чернявый молодой человек противоречивой внешности: жиденькая бородёнка, видать, совсем не желавшая расти, и огромные старомодные очки никак не вязались с атлетической внешностью и весьма уверенной речью:
– Если скоро вообще будет кому-либо и кем питаться… Вы видели, что творится с обрывистыми берегами на северной оконечности острова? Нет? Сидите тут безвылазно от борта до борта по лабораториям. Так взгляните как-нибудь ради интереса. Деградация вечной мерзлоты идёт с геометрической прогрессией. Мне тут соседи наши – палеонтологи – прислали матерьяльчик: прошлым летом каждую неделю новые кости и бивни вымывало наружу. Ребята даже не копали – всё так вываливалось.
– Ну так это хорошо? Разве нет? – отозвался снова рыжий из-за пульта.
– Ты про метаногидраты на дне моря слышал что-нибудь? – подался к нему очкарик.
– Ну слушай, за кого ты меня принимаешь? – обидчиво парировал собеседника рыжий, который на самом деле был кандидатом наук, правда, по части физики высоких температур. Очень высоких!
Чернявый хмыкнул и продолжал:
– Здесь, в Арктике, эти концентрированные, запечатанные в вечную мерзлоту газовые хранилища в виде льда находятся не на километровой глубине под дном, как, допустим, возле Японии, а всего лишь в десятке метров. Глобальное потепление, будь оно неладно, опасно как раз таянием метангидратов. – И чуть подумав, добавил:
– Метан – это вам не «це-о-два»: взрывоопасен и похлеще углекислого газа утепляет атмосферу. Есть даже теория, по которой Великое мел-палеоценовое вымирание динозавров было не импактным: ведь наряду с наземными крупными ящерами погибло множество видов морских и даже аммониты и водоросли!
Рыжий махнул рукой:
– Да ладно тебе! Этих теорий уже всяких разных навыдвигали. Чем метан-то мог животину покалечить? Он крайне летуч, токсичен только в высокой концентрации.
Чернявый поправил на носу очки и произнёс почти торжественно, точно теория эта была его собственная и озвучивал он её не в тесном балке научной экспедиционной станции, а, как минимум, в МГУ перед собранием академиков и профессоров: 17
– Очень вероятно, что причиной катастрофы был взрыв, и даже, я бы сказал, серия взрывов гигантской мощности, вследствие резкого повышения температуры и последующего за этим лавинообразного таяния метангидратов под океанским дном. А мощность была эквивалентна пятидесяти термоядерным бомбам!
– Это как так-то?! – послышался откуда-то из угла искренне удивлённый возглас техника.
– А вот так как-то…! – парировал чернявый. – И ещё одно очень важное дополнение: если таких высвобождающихся газов много, а процесс идёт лавинообразно, то перенасыщенная пузырьками жидкая среда сильно теряет в плотности. Всплывая, допустим, под корпусом корабля, такая смесь мгновенно делает его плавучесть отрицательной. Это всё равно, что тот провалится сразу на пятидесятиметровую глубину, а сверху ему закроют крышку люка. И всё! Говорят, что именно в этом заключён феномен исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике… А у нас тут не хухры-мухры, а целый «Северный морской путь»!

