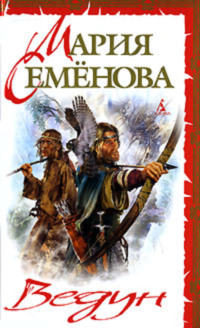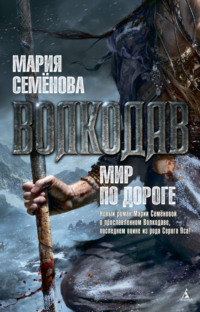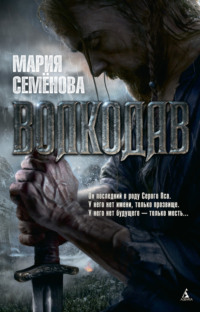Полная версия
Братья. Книга 3. Завтрашний царь. Том 2
– Истинно сказано: хочешь обласкать своё нёбо, ступай к хасинским гуртовщикам, – любуясь прожилками в мякоти, ответила Змеда. – Но годится ли мне принимать поцелуи южного ветра, когда мой великий брат ещё не сел во главе пира?
– Надеюсь, сын Андархайны и Шегардая почтит нас своим присутствием… и тоже не вспомнит притчу вашего царя Йелегена, – рассмеялся Фалтарайн Бана. – Ты должна знать, шагайдини: то злодейство сотворило равнинное племя, не унаследовавшие благородства. Однако поясни мне, бесскверная: неужто девы на пиру повинны законам старшинства?
Шагад Газдарайн Горзе явно знал, кому вручить свадебное орудье. Змеда на глазах хорошела, очарованная обхождением Баны, а царевну Эльбиз покалывала тревога.
«Может, я готова уступить неизбежному, только признаться боюсь? Или Змеду ревную, что красно беседует и в гусли играет?.. Полакомиться хочу, да не рука угоститься?..»
– Шагайдини встретила нас песней победы, мужества и печали, – говорил тем временем ахшартах. – Она украсила цветами наши сердца. У нас тоже есть песни, рождённые на тропах чести и славы. Мой хоран возжелал послать их сокровищу Андархайны… Призови же песню, Топтама, клинок моих ножен, стрела моего колчана!
«Призови? Это они так говорят? Не спой песню, а призови?.. Топтама! Имя, оклик, почёт? – Мысленно царевна мчалась в Книжницу наперегонки с Мартхе – листать всё, что сыщется о хасинах. – Клинок моих ножен! Рында? Родич? Сын, внук, племянник?»
Топтама уже извлёк откуда-то сзади вагуду с очень длинной шейкой и небольшим брюшком. Игровой сосудец доводился явной роднёй андархскому уду, только вместо шести-семи струн насчитывал всего две. Зато имел долгий шип снизу, чтобы упирать в землю.
Под взмахом горбатого лучка струны загудели неожиданно низко и мощно. Просторный водоскоп сразу стал тесноват. Нежные дочки Хида попрятались за веерами. Прикрыли уши ладонями.
Этим гулам нечего было делать в замкнутых стенах, им растворять бы крылья на воле, им бы парить над теснинами, заставляя откликаться молчаливые склоны…
Эльбиз воображала хребты всемеро величественней Ворошка с его кипуном.
«Зачем я в молодечной таилась, вместо того чтобы „Хасинские войны“ иным глазом перечесть?..»
К хрипловатому гудению струн добавился ещё звук. Он словно вырос из хитросплетений, на которые оказались чудесно способны две тетивы. Вошёл в силу, окреп – и оседлал крылатые гулы, подчинив своему то ли жужжанию, то ли рыку, полному сдержанной силы.
Это была непривычная, чуждая, почти враждебная… но всё равно красота. Она околдовывала, манила… и наконец в звуках бури, плутавшей меж ледяных вершин, возникли слова.
Горский язык был под стать и гудьбе, и строгой воинской осанке, и жёстким лицам под чёрными головными платками. Щелчки, спотычки… а на деле – порханья к новому слогу, слову и смыслу.
«Зачем я на исаде у купцов не узнала, как „здравствуй“ и „прощай“ у них говорят…»
Пламя напольного светца играло в лощёном дереве вагуды, обтекало светом плечи Топтамы, вспыхивало в глазах. Особенно когда он взглядывал куда-то направо.
Внутреннее око царевны созерцало хасинские горы. По колено в снегу, по горло в тумане. Далеко, далеко… За бездонными провалами, за оплавленными руинами, за мёртвыми пустошами. Если дикомыты к Шегардаю придут, Газдарайн Горзе о том через полгода узнает. Ещё через полгода с войском на выручку подойдёт… Вот дворец, врезанный в нависшие скалы. Внутри горят очаги, там пируют воины и резвятся дети шагада… от всех пятнадцати жён…
…Слова постепенно сошли на нет, улеглось горловое жужжание, успокоились струны, покинутые лучком.
– О чём пел твой отрок? – с неожиданной и почти ненапускной строгостью спросила Коршаковна. – Дай слово, сын Испытанного, что он присушку на моих красавиц не напустил!
Бана кивком отдал ответ младшему, и Топтама сказал:
– Это была песня о красоте нашей земли, бесскверная шагайдини. О милой родине, что ждёт нас за пеленами метелей.
Он говорил по-андархски так же чисто, как ахшартах.
«И это рында?.. Ой, не смешите. Чтоб Косохлёст песнями забывался? Как в омуте пропадал?»
Бесплотный воздух вновь родил Фирина. Громовым серебром рассыпались колокольцы, начищенное перо метнуло светящуюся куржу.
– Третий наследник Огненного Трона и Справедливого Венца! Эрелис, потомок славного Ойдрига, щитоносец северной ветви, сын Эдарга, Огнём Венчанного!
Хасины повернулись к устью прогона, однако ошиблись. Отборные порядчики выступили из-за ковровой дверницы, прятавшей другой вход.
Эрелис вошёл в простой белой рубахе и шегардайском суконнике, брошенном на плечи. Несчётны пути царской учтивости. Один из главнейших – доверие. Ни тайных лат, ни подкафтанной кольчуги! Вот грудь, вот сердце!
Тенью проскользнул Косохлёст…
На шаг приотстав, вошёл Гайдияр. У них с Эрелисом были сходные венцы, но четыре ступени лествицы – что четыре неба. Не спутаешь, кому править, кому… Площадником быть. И дело не в золотой плети на руке.
Эльбиз задохнулась от гордости, в носу защипало. Только вспомнить Невдаху! Тогда бедный Аро шёл к важному креслу, как к дыбе, а она удирала от девок, кляня расшитую ферезею! И Мартхе не сменял плетежок на серебряный обруч, и Болт почти в открытую усмехался, и…
– Я ждал за дверьми, – улыбнулся Эрелис, когда иссякли поклоны и великие бояре расселись против хасинов. – Не хотел рушить песню. Её жизнь – мгновение, но порой оно длится дольше века царей…
– Будущий вождь андархов молод годами, однако познал мудрость седобородых, – почтительно ответствовал ахшартах. – У народа, возглавляемого хораном Горзе, в ходу то же присловье…
Придворная игра
«Как есть размазня!»
В бывшем водоскопе было тепло, но Ознобишу окутывали ледяные токи, легко проникавшие сквозь плотный опашень. Прежде за ним подобного не водилось. Он был закалённый гнездарь, он любил снег. Кажется, что-то в нём не пережило похищения и страшной дороги назад. Что-то умерло, отслоилось, как кожа, прихваченная морозом… и до сих пор брело нескончаемыми бедовниками, гадая, на котором шагу придётся упасть. Холод белых равнин тощим волком крался по следу. Ждал, пока бредущий ослабнет…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.