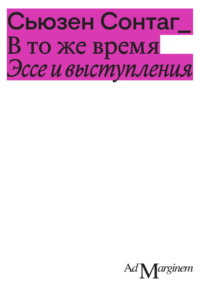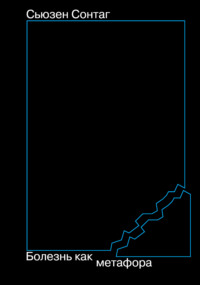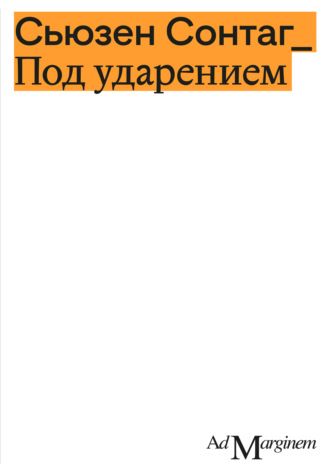
Полная версия
Под ударением

Сьюзен Сонтаг
Под ударением
Посвящается Элизабет Хардвик
Материк, город, страна, общество:
выбор никогда не бывает велик, никогда не бывает свободен
Здесь или там… Не лучше ли остаться дома,
где бы он ни был?
Элизабет Бишоп. Вопросы о путешествияхSusan Sontag
Where the Stress Falls
Перевод
Марк Дадян

Copyright © Susan Sontag, 2001. All rights reserved
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2024
Чтение
Проза поэта
«Я был бы никем без русского XIX века…» – в 1958 году провозгласил Камю в посвящении Пастернаку – одному из созвездия великих писателей, творчество которых, наряду с анналами их трагических судеб, сохраненных, возвращенных, открытых нам благодаря переводам в последние двадцать пять лет, превратили русский XX век в событие столь же значимое, а учитывая, что это наш с вами век, в событие гораздо более неотступное и настойчивое.
Русский XIX век, изменивший наши души, был достижением авторов прозы. Русский XX век главным образом стал достижением поэтов – но не только в поэзии. Собственная проза вызывала у поэтов чувства вполне страстные: всякий идеал серьезности неизбежно влечет за собой шквал критики. Пастернак в последние десятилетия жизни отметал как ужасающе модернистскую и самодовольную – великолепную, изысканную мемуарную прозу своей юности (например, Охранную грамоту), одновременно провозглашая, что роман, который он писал, Доктор Живаго – это самое оригинальное и совершенное из его творений, по сравнению с которым меркнет вся его поэзия. Но чаще поэт склонен определять поэзию как предприятие абсолютно превосходное (высшая цель литературы, высшее состояние языка) по сравнению с любым прозаическим произведением – как если бы проза ограничивалась сообщением, служебной деятельностью. «Поучение – нерв литературы», – в ранней статье писал Мандельштам. Таким образом, «что верно по отношению к литератору, сочинителю, абсолютно не применимо к поэту». Если автор прозы всегда обращается к «конкретному слушателю», представителю эпохи, то поэт «связан только с провиденциальным собеседником», с будущим, пишет Мандельштам. «Обменяться сигналами с Марсом – задача, достойная лирики»[1].
Цветаева разделяет понимание поэзии как вершины литературного творчества – тем самым определяя все великие творения, даже написанные прозой, как поэзию. Статью Пушкин и Пугачев (1937) она завершает словами: «Был Пушкин – поэтом. И нигде он им не был с такой силой, как в „классической“ прозе Капитанской дочки».
Тот же притворный парадокс, которым Цветаева заключает рассказ о своей любви к повести Пушкина, получает дальнейшее развитие в статье Иосифа Бродского, предпосланного изданию цветаевской прозы (на русском): характеризуя эту замечательную прозу, Бродский не может не констатировать, что «проза была для Цветаевой всего лишь продолжением поэзии, но только другими средствами». Как и его предшественники среди великих русских поэтов, Бродский нуждается, в целях определения поэзии, в карикатурном Другом, а именно в некоем банальном уме, который он отождествляет с прозой. Принимая аксиоматичную ущербность прозы, а также мотивов, побуждающих поэта к прозе обратиться («Нужда или невежество рецензента, не говоря уже о простой почте»), в противоположность возвышенным, нормативным целям поэзии (настоящая тема которой – абсолютные объекты и абсолютные чувства), невозможно не заключить, что поэт – аристократ словесности, прозаик – ее буржуа или плебей; что поэзия – авиация, а проза – пехота (еще один образ из Бродского).
Подобное определение поэзии фактически тавтологично – как если бы проза была тождественна «прозаическому». Пренебрежительный эпитет «прозаический», означающий нечто скучное, банальное, рядовое, унылое, – в полной мере романтическая идея. (Оксфордский словарь английского языка относит самое раннее употребление слова в этом фигуральном смысле к 1813 году.) Одна из ключевых линий «защиты поэзии» в романтической литературе Западной Европы сводится к тому, что поэзия – это форма не только языка, но и существования: идеал насыщенности, абсолютной искренности, благородства и героизма.
Республика изящной словесности – это, скажем так, аристократия. Слово «поэт» всегда звучало как вельможный титул. Однако в романтическую эпоху благородство поэта перестало отождествляться с превосходством как таковым и приобрело бунтарское значение – как олицетворение свободы. Романтики изобрели писателя как героя – эта фигура обладает первостепенным значением для русской литературы (которая достигла первых высот лишь в начале XIX столетия); так случилось, что история сотворила из риторики реальность. Великие русские авторы действительно герои – у них нет выбора, если им суждено стать великими, – а русская литература продолжает пестовать романтический идеал поэта. В глазах современных русских стихотворцев поэзия отстаивает нонконформизм, свободу, индивидуальность – отвергая социальное, презренное и пошлое настоящее, занудство коммунизма. (Это как если бы проза в ее «природном состоянии» воплощала государство.) Неудивительно, что поэты яростно отстаивают абсолютный характер поэзии и ее коренное отличие от прозы.
Проза соотносится с поэзией, сказал Валери, как ходьба с танцем – романтические идеи о присущем поэзии превосходстве, конечно, не ограничиваются великими русскими поэтами. Для поэта обратиться к прозе, считал Бродский, – это как перейти с галопа на рысь. Впрочем, контраст заключается не только в скорости, но и в массе: сжатость лирической поэзии по сравнению с распространенностью прозы. (Гертруда Стайн, виртуоз пространной прозы, искусства «антилаконичности», сказала, что поэзия есть имя, а проза – глагол. Иными словами, гений поэзии – в именовании, а гений прозы – в изображении движения, процесса, времени: прошлого, настоящего и будущего.) Собрание прозы каждого большого поэта – Валери, Рильке, Брехта, Мандельштама, Цветаевой – намного «толще» собрания его или ее стихотворений. Престижу, которым романтики награждали худобу, есть нечто аналогичное в литературе.
То, что поэты нередко пишут прозу, тогда как прозаики редко пишут стихи, не должно считаться, в противоположность утверждению Бродского, доказательством превосходства прозы. Согласно Бродскому, «поэт – в принципе – выше прозаика. <…> стесненный в средствах поэт может сесть и сочинить статью; в то время как прозаик в той же ситуации едва ли помыслит о стихотворении». Но дело, конечно, не в том, что за стихи платят хуже, чем за прозу, а в особой стати поэзии – в вытеснении поэзии и любителей поэзии на обочину; стихосложение, которое некогда считалось весьма распространенным умением, подобно игре на музыкальном инструменте, теперь представляется областью почти непостижимой. Стихи не пишут не только писатели-прозаики, но и в целом культурные люди. (Так же как, скажем, стихи перестали учить наизусть.) Современные достижения в литературе отчасти связаны с общим дискредитированием идеи литературной виртуозности. Так, сегодня кажется почти сверхъестественным, если автор создает блистательную прозу более чем на одном языке; мы восхищаемся Набоковым, Беккетом, Кабрера Инфанте – но еще два столетия назад такая виртуозность была бы вполне естественной. Обычной до недавнего времени была и способность писать стихи и прозу.
В XX веке стихотворчество нередко воспринимается либо как прихоть юного писателя-прозаика (Джойс, Беккет, Набоков и другие), либо как его побочное занятие (Борхес, Апдайк и другие). Быть поэтом, таким образом, – это нечто большее, чем просто сочинение стихов, даже выдающихся: Лоуренс и Брехт, написавшие замечательные стихотворения, обычно не считаются великими поэтами. Быть поэтом – это определиться с выбором, оставаться (вопреки всему) поэтом и только. Так, единственный общепризнанный пример в литературе XX века выдающегося прозаика, который был и великим поэтом, – это Томас Харди; он перестал писать романы, чтобы писать стихи. (Харди перестал быть писателем-прозаиком. Он стал поэтом.) В этом смысле распространение, причем не только среди современных русских авторов, получила романтическая идея поэта как человека, в наибольшей степени приближенного к идеалу.
Однако необходимо сделать исключение для критики. Поэт, одновременно выступающий мастером критического эссе, не теряет своего высокого положения; большинство великих русских поэтов от Блока до Бродского писали великолепную критическую прозу. Поистине, начиная с романтической эпохи большинство самых влиятельных критиков были поэтами – Кольридж, Бодлер, Валери, Элиот. То, что поэты реже принимались за другие формы прозы, знаменует современность как раз с эпохи романтизма. Гёте, Пушкин или Леопарди, авторы великих стихов и равновеликой художественной прозы, не выглядят нелепыми или тщеславными. Однако умножение стандартов прозы в последующих литературных поколениях – возникновение традиций прозы на стыке с изобразительными искусствами, рост «нелитературной» и «паралитературной» прозы – сделали подобные достижения куда более необычными.
Граница между прозой и поэзией всё более проницаема – это диктуется этосом максимализма, характерным для современного художника: создавать произведения, которые достигают самых пределов. Норма, которая казалась применимой к лирической поэзии, а именно что стихотворения воспринимаются как лингвистические артефакты, неизменные и не подлежащие дальнейшим манипуляциям, во многом влияет и на современную прозу. Как проза, начиная с Флобера, тяготеет к насыщенности, высокой скорости и лексической неизбежности поэзии, так представляется необходимым и дальнейшее «укрепление двухпартийной системы» в литературе, размежевание и противопоставление прозы и поэзии.
Причина, по которой именно проза, а не поэзия вынуждена постоянно обороняться, состоит в том, что «партия прозы» – это в лучшем случае ситуативная коалиция. Как может не выглядеть подозрительным термин, который согласно современным взглядам охватывает эссе, мемуары, романы, рассказы и пьесы? Проза – это не просто призрачная категория, состояние языка, определяемая негативным образом, по своей противоположности – поэзии. («Всё, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза»[2], – провозглашает в мольеровском Мещанине во дворянстве учитель философии, и буржуа вдруг узнает, что всю свою жизнь – боже мой! – он говорит прозой.) Теперь это словечко обозначает целое множество литературных форм, которые, в их современном развитии и, прямо скажем, стремительном исчезновении, всё чаще избегают именований. Как термин, используемый для описания сочинения, что, по словам Цветаевой, не есть поэзия, «проза» – относительно недавнее понятие. Когда эссе перестают походить на эссе, а длинные и короткие произведения больше не похожи на романы и рассказы в былом понимании, мы называем их прозой.
Великим событием в литературе XX века стала эволюция прозы особого рода: нетерпеливой, страстной, эллиптичной, обычно от первого лица, часто использующей рваный ритм и нерегулярную форму – прозы, которой чаще всего пишут поэты (или литераторы с поэтическим складом ума). Для некоторых поэтов писать прозой – это заняться чем-то совершенно другим, говорить иным (более убедительным, более рассудочным) голосом. Превосходные критические и культурологические статьи Элиота, Одена и Паса всё же не относятся в этом смысле к прозе поэта. Критика и отдельные статьи Мандельштама и Цветаевой – да. В отличие от Мандельштама, который был автором критических статей, труда о поэтике (Разговор о Данте), повести (Египетская марка), воспоминаний (Шум времени), – Цветаева в своей прозе ограничивается более узким кругом жанров, чистыми образцами поэтической прозы.
Особенность прозы поэта не только в ее особой горячности, плотности, скорости, ткани. У нее особая тема: развитие поэтического призвания.
Обычно проза поэта принимает одну из двух форм повествования. Первая сугубо автобиографична. Вторая форма, которая также имеет мемуарную природу, представляет собой портрет другого – брата-писателя (часто представителя старшего поколения и ментора) или любимого родственника (обычно одного из родителей, дедушки или бабушки). Посвящение другому дополняет рассказ о самом себе: поэт избегает пошлой самовлюбленности в силу глубокого, искреннего восхищения другим. Отдавая дань признания и вспоминая важные встречи в жизни и в литературе, писатель обозначает мерки, по которым надлежит оценивать его собственную личность.
В прозе поэт обычно повествует о том, что значит быть поэтом. А для того чтобы написать автобиографию поэта, требуется мифотворчество. Изображаемая личность – личность поэтическая, которой часто – и безжалостно – приносится в жертву личность в ее повседневности, а также все окружающие. Поэтическая личность есть реальная личность, эта вторая – только носитель; когда поэтическая личность умирает, умирает человек. (Совмещение двух личностей определяет патетичность судьбы.) В значительной степени проза поэта – особенно мемуарная форма – посвящена летописи триумфального становления поэтической личности. (В дневниковых записках, другом важном жанре прозы поэта, в центре внимания находятся отношения между поэтом и его повседневной личностью, и сложности общения между двумя. Дневники – например, Бодлера или Блока – изобилуют правилами по защите поэтической личности; отчаянными максимами поощрения; рассказами об опасностях, неудачах и поражениях.)
В прозе Цветаевой предстает портрет ее поэтической личности. В воспоминаниях о Максимилиане Волошине, Живое о живом (1933), Цветаева говорит о дикой девочке с бритой головой и в очках, недавно издавшей первую книгу стихов. Волошин, уже признанный поэт и критик, написавший о Цветаевой хвалебную статью, вдруг пришел ее посетить. (На дворе 1910 год, и Цветаевой восемнадцать. Как большинство поэтов, и в отличие от большинства прозаиков, она рано обнаружила свой дар.) Ласковое воспоминание о «ненасытности на настоящее» Волошина – это, конечно, и слова Цветаевой о самой себе. В мемуарных записках о детстве автор тоже говорит о развитии поэтического призвания. Мать и музыка (1935) – рождение лирической души через погруженность в музыку, звучавшую в доме; мать Цветаевой была пианисткой. Мой Пушкин (1937) – в душе поэта рождается страстность (и ее особая разновидность – «страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви»); об этом повествуется через призму детских отношений с образом и легендой Пушкина.
Проза поэта обычно элегична, ретроспективна. Кажется, что ее предмет должен относиться к исчезнувшему прошлому. Иногда причиной, побудившей поэта писать прозой, может стать физическая кончина – возьмем, к примеру, воспоминания Волошина и Белого. Однако источником элегичности никогда не бывает трагедия изгнания, даже если это ужасные лишения и страдания, которые переживала в эмиграции Цветаева до возвращения в Советский Союз в 1939 году (где, находясь фактически во внутренней ссылке, она совершила самоубийство в августе 1941 года). В прозе поэт всегда скорбит об утраченном рае – он просит память говорить или рыдать.
Проза поэта – автобиография страсти. Всё творчество Цветаевой есть аргумент восторга, а также гения, то есть иерархии: это Прометеева поэтика. «Всё наше отношение к искусству – исключение в пользу гения», – написала Цветаева в поразительном эссе Искусство при свете совести. Быть поэтом – это состояние бытия, возвышенного бытия: Цветаева говорит о любви к идеалу. В ее прозе ощущается тот же эмоциональный полет, что и в ее поэзии: ни один современный автор не подошел ближе к опыту вышнего. Цветаева задается вопросом: «Никто дважды не вступал в ту же реку. А вступил ли кто дважды в ту же книгу?»
1983
Под ударением
Посвящается П.Д.
Он открывается, этот великий американский роман (не станем называть его «великой американской новеллой»), голосом памяти – значит голосом неопределенности.
Каллены были родом из Ирландии, но встретились мы во Франции, где я узнал их и где смог составить впечатление об их любви и бедах. Однажды они заехали в Шанселе по дороге к дому, который снимали в Венгрии, чтобы повидать мою хорошую знакомую Александру Генри. Это было в мае 1928-го или 1929 года, перед тем как мы все вернулись в Америку, где Алекс встретила моего брата и вышла за него замуж.
Не стоит и говорить, что двадцатые годы очень отличались от тридцатых, а нынче уж и сороковые начались. В двадцатые не было необычным встретить иностранцев в какой-нибудь стране, такой же загранице для них, как и для вас; ваши странствия просто пересекались с их путешествием, и вы прилагали максимум усилий, чтобы поближе узнать их в такие послеполуденные часы, и, может быть, это легкое знакомство вы называли дружбой. В воздухе витало что-то вроде альтруистического или оптимистического любопытства. И причуды человеческой натуры, война и мир, которые соседствуют в душе, вызывали живой интерес и казались чрезвычайно важными[3].
Упоминание десятилетия – роман вышел в 1940 году, сороковые едва начались – наводит на повесть дополнительный глянец, вкладывая в нее привлекательность несвоевременности; автор словно намекает, что мировые события выхолостили важность «войны и мира, которые соседствуют в душе». Ведь здесь мы имеем дело всего лишь с пустяками частной жизни, к тому же сжатыми до рекордно короткого времени – «послеполуденных часов» – такова длительность всей истории, от приезда Калленов после ленча, около половины третьего пополудни, до их стремительного отъезда как раз перед началом великолепного обеда. За эти несколько часов – намного меньше, чем целый день и вечер в Миссис Дэллоуэй, – чертоги воспитанности окажутся сокрушены бурей чувств, а свирепый неразрывный союз Калленов, «их любовь и беды», подвергнется хитроумно тщательному исследованию. «Легкое знакомство» – что бы это могло значить?
Поразительный роман, о котором идет речь, роман, до сих пор пребывающий в тени, – это Странствующий сокол Гленуэя Вескотта. Он принадлежит, на мой взгляд, к сокровищам американской литературы ХХ века, каким бы нетипичным ни был его изящный, гибкий словарь, всепоглощающее внимание к характеру, глубокий пессимизм и подчеркнутая светскость взглядов. В свою очередь, типично американской принято считать известную широту, даже бесцеремонность манеры письма, а также относительную простоту, даже простодушие в рассуждениях, особенно о таком почтенном предмете, занимающем авторов в Европе, как брак; в Странствующем соколе с браком всё обстоит непросто.
Не подлежит сомнению, что американская литература не раз являла миру сложные спектакли строящегося на принципах нравственности воображения, некоторые из которых представляют собой драмы изощренного психологического насилия, что отражаются в сознании наблюдателя. Задача повествующего «я» в Странствующем соколе – рассмотреть, обдумать, понять (а значит – испытать недоумение) происходящие события. Кто этот простоватый, грузный, настороженный мужчина и эта изысканно одетая женщина с соколом или небольшим ястребом в клобуке, цепляющимся за грубую перчатку на ее руке? Присутствие и странности этой пары побуждают рассказчика писать. Он скор на красноречивые краткие характеристики. Повествователь предлагает свои суждения по мере развития неурядиц в жизни супругов.
Завязка романа предполагает сверхъестественную скорость, с которой всеядный наблюдатель способен сформировать «впечатление» о двух до той поры неизвестных ему людях: «вы прилагали максимум усилий, чтобы поближе узнать их». О том, когда это впечатление было сформировано, говорится с мастерской неопределенностью: «Это было в мае 1928 или 1929 года, перед тем как мы все вернулись в Америку». Почему Вескотт решил, что рассказчик не уверен, в каком году произошла встреча? Может быть, он хотел сгладить значение финансового краха 1929 года для пары своих праздных и богатых американских экспатриантов – не мнимых «богачей», как Зельда и Скотт Фицджеральды, а серьезных богачей, как в романе Генри Джеймса об американцах, «делающих» Европу. Или, может быть, эта расплывчатость – просто проявление хороших манер рассказчика с его выразительным, как у персонажа Джеймса, именем – Алвин Тауэр. Хорошие же манеры диктуют сомнения рассказчика относительно собственной проницательности: Алвину Тауэру не хотелось бы просто «казаться умным».
Имя следует за предназначением. Отстраненный, более того, лишенный всяких иллюзий и, фактически, прошлого рассказчик (мы не узнаем о причинах его одиночества; до середины книги мы даже не будем знать его фамилии, а чтобы догадаться о его имени, мы должны быть осведомлены о том, что Алвин Тауэр – центральная фигура в раннем автобиографическом романе Вескотта Бабушки) – тем не менее не так загадочен, как может показаться. В действительности «я» Странствующего сокола, холостяк с туманным прошлым и друг одного или основных персонажей романа, близкородственен рассказчикам, которые излагают Роман о Блайтдейле Готорна, Священный источник Джеймса и Великого Гэтсби Фицджеральда. Все эти погруженные в себя повествователи до известной степени подавлены еще более безрассудными, или витальными, или склонными к саморазрушению людьми, за которыми они наблюдают.
Рассказчику как зрителю неизбежно присуще соглядатайство. Пристальный взгляд оборачивается подглядыванием или по меньшей мере обнаружением вещей, не предназначенных для глаз постороннего. Ковердейл, жутковатый рассказчик в Романе о Блайтдейле, наблюдает за своими друзьями с насеста, скрытого в кроне дерева, а также с поста у окна в гостиничном номере, откуда он вглядывается в окна дома напротив. Священный источник – классический пример романа, где рассказчик прильнул к замочной скважине. Сцена откровения в Странствующем соколе, отражающая ненависть Каллена к питомице его жены, происходит, когда Тауэр, как оказалось, смотрит в окно – и видит Каллена, который, украдкой приблизившись к соколу, вынесенному в сад после кровавой трапезы, вытаскивает нож, снимает с птицы клобук и перерезает привязь, чтобы выпустить ее на волю.
Брак – нормативная связь в этом мире пар, в который входят не только Каллены и пара слуг с их буйной чувственностью, но и псевдопара, образованная Александрой Генри и гостящим у нее в доме задумчивым другом с неопределенными пристрастиями. Может быть, обеспокоенность Тауэра уровнем собственного понимания проистекает из мысли, что он одинок и стои´т вне мира супружеских связей. «Жизнь – это почти сплошной насест. Не существует гнезда, и никто не находится с тобой на той же самой скале или на той же самой ветке. Любовные взаимоотношения слишком мелочны, чтобы ради них жертвовать дружеским общением». В нем говорит иссушенная мудрость не склонного к супружеству сознания. «Независимо от того, прихожу я в конце концов к правильному пониманию людей или нет, я часто начинаю с досадной поверхностности».
Тауэр описывает прихотливость сочинения романов и подводные камни на пути понимания окружающей действительности. Все наши болезненные рассказчики – это и автопортреты писателей, и воплощенные упражнения в подавлении собственного «я». Ковердейл, «ледяной холостяк» Готорна, – поэт. Рассказчик-холостяк Вескотта огорчен своей неспособностью стать «художником» («никто меня не предупредил, что в действительности у меня недостаточно таланта»), что не мешает ему мыслить как романист, наблюдать как романист, красоваться искрометными суждениями романиста. «Иногда, подобно женщине, я обостренно чувствую характер или темперамент других людей, и эта чуткость почти случайно может обернуться как в их пользу, так и против них».
В тауэровском признании двойственности романиста по отношению к объекту наблюдения нет самодовольства, присущего леденящим рассуждениям Ковердейла:
Меня посетила мысль, что я пренебрег своими обязанностями. Возможно, обладая властью выступать от имени судьбы и отвести несчастье от своих друзей, я предпочел предоставить их своей судьбе. Та холодность, что колеблется между инстинктом и интеллектом, которая побуждала меня всматриваться с умозрительным интересом в людские страсти и порывы, похоже, немало преуспела в обесчеловечивании моего сердца.
Однако человеку непросто решить, холодно или горячо его сердце. Теперь же я думаю, что если и допустил ошибку в отношении Холлингсворта, Зенобии и Присциллы, то это было по причине избытка, а не недостатка сочувствия.
Тауэр обнаруживает свои смешанные чувства к паре, которую наблюдает. Он чувствует себя сбитым с толку. Он сочувствует то жене, то мужу: в ней ощущается горячность и большая чувственность, в нем – отчаяние и удрученность. По мере изменения баланса сил между ними сами Каллены, похоже, несколько раз на протяжении романа претерпевают серьезнейшие изменения. (Неврастеничная, хрупкая жена даже меняется во внешнем облике – она будто становится крепкой, грубой, неукротимой.) Иногда Тауэру кажется, что он плетется в хвосте поразительно изменчивых, интересных супругов, иногда же кажется, что он накладывает на их историю больше сложности, чем это правдоподобно, и повествование рискует превратиться в историю извилистого, мучительного сознания Тауэра – на манер позднего Генри Джеймса. Но Вескотт не заходит так далеко. В целях развития своей повести автор довольствуется преимуществами, которые таятся в образе нервического рассказчика. Романист, взявшийся за мучительную историю, должен был снабдить книгу сложными персонажами, которые раскрываются лишь постепенно. Но есть ли более гениальный, экономичный метод, чем вывести сложность персонажа из нестабильности восприятия рассказчика? Для этой цели вряд ли подойдет кто-то лучше Тауэра. Его желание открывать, констатировать и опровергать значимые черты в человеческом характере неутолимо.