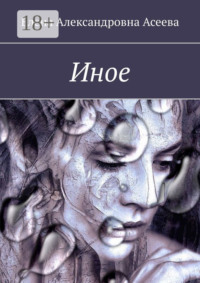Полная версия
Удивительные приключения Пашки и Батанушки
– А чаво-сь не ясно чё ли гутарю, – ответил теперь уже на сам вопрос мальчишки домашний дух, пристраивая палец к левой ноздре, вероятно, намереваясь и из нее выдуть не меньшую соплю. – Не ясно чё ли по тону молвленного, чаво то загыдка звучит? Настрой слух свой, Пашка, дабы от тобе не ускользали оттенки мною сказанного, дабы ты осилил мои головоломки, – Батанушко так и не дунув из левой ноздри ничего, перевел взгляд на мальчика, притом немножко, чтобы его хорошо видеть приподнял и саму голову. И тотчас в его карих радужках, таращившихся из-под мохнатых бровей, блеснула, прокатившись по кругу, серебристая изморозь, точно желающая сменить сам цвет, также стремительно вошедшая в тонкую полоску белка, и затерявшаяся в белых волосках или ресничках окружающих глазницы.
Легкий ветерок просквозивший в воздухе качнул ветви дерева сильней и они не просто заскрипели, а будто застонали, или может это вновь прискорбно ухнул дух, Пашка того не понял. Так как дуновение с не меньшей порывистостью колыхнуло не только русые его волосы, но и беленькие Батанушки, опять же шевельнув мягкую, окладистую бороду домового и косички, заплетенные на концах длинных усов. А потом внезапно сверху, очевидно, сброшенные с веток антоновки, прилетели, упав под подошвы мокасин мальчишки маленькие, и точно пожамканные, зеленые яблочки.
– Я не очень люблю разгадывать загадки и головоломки. Люблю играть в компьютерные игры, – негромко протянул Павлик и также легонечко, как до этого дул ветерок, мотнул головой, все больше стараясь развеять, как ему кажущуюся галлюцинацию в виде домового. Однако так как и после того покачивания головы Батанушко продолжал находиться на прежнем месте, в упор глядя на него карими глазами, Пашка подняв от книги правую руку и выставив указательный палец вперед, направил его в сторону духа. Домовой между тем от движения руки мальца не отклонился, а резво подавшись вверх, уткнулся собственным волосатым лбом в подушечку пальца, тотчас тихонечко захихикав, ровно радуясь чему. А немного погодя, все также, продолжая мешать смех да слова, произнес:
– Ну, здрав… Здрав будь… Вотде дык молвить, и обзнакомились значица. Батанушко, – видимо, таким образом, и снова представляясь. Дух теперь сместил собственный палец с левой ноздри вверх и ухватился в свою очередь за палец мальчишки, обхватив его не менее волосатой ладошкой.
– Энто у те самы любишь играть, иде вот тык? – дополнил свою речь вопросом и еще большим хихиканьем Батанушко, и стремительно скинув со лба палец мальчугана, да выпустив его из собственной хватки и вовсе скоро вскочил на ножки. Он быстро взмахнул обеими руками, ровно выхватывая, что-то из-за спины и направил это, что-то, на Пашку. Так, что последнему в сиянии редких просачивающихся через ветви и листву дерева солнечных лучей показалось хозяин дома, навел на него золотистые клинки мечей. И также ярко сверкнули карие очи Батанушки, которые в сочетание с тонюсеньким его хихиканьем нагнали на мальчика особое волнение. И тот неожиданно для себя вспомнил, что когда-то и где-то читал про духов, которых относили авторы тех книжек к злой нечисти, приносившей людям лишь беды и неприятности.
Впрочем, стоило этому воспоминанию пронестись в его голове, а Павлику торопливо дернуть ранее выставленную руку к груди и самому отклониться назад, как Батанушко, прямо-таки, весь сник, перестав хихикать. Он как-то обреченно уронил вниз свои маленькие ручки, в каковых ничего подобного мечу-то и не оказалось, а блеснули лишь тонкие полосы солнечных лучей, точно ранее выловленных из воздуха. Хозяин дома свесил голову, подоткнув подбородком свою окладистую, мягкую бороду к груди и материи косоворотки, да обидчиво протянул:
– У то усё враки… Никоим побытом нельзя духов причислять к нечисти… Зловредной, а иноредь и враждебной… А касаемо загадки, тык яснее ясного толковал я о буряке. Дык ее в энтом крае кличут, а в инаковых, небось, больше величают свеклой.
Домашний дух как-то разом свернул свои пояснения, и вновь вернув взгляд в направлении мальчика, улыбнулся, да так широко, показав не только свои тонюсенькие, и как оказалось розовые губки, но и узенькие, острые зубки, теперь став похожим на вампира, с которым Дракину приходилось не раз биться в Блакруме. Потому Пашку словно ударила по макушке головы догадка, что этот Батанушко не галлюцинация, а тот самый вампир, желающий заговорить ему зубы, отвлечь, так сказать, чтобы потом выпить всю его кровь.
– Чу, тобя, – домовой это проронил со слышимым раздражением, согнав с лица улыбку, и покрыв его множеством мельчайших морщинок, которые избороздили вдоль и поперек не только лоб, но и щеки, местами даже поглотив в себя волоски. Хозяин дома медленно опустился на скамейку, вновь на нее усевшись, упер ручки в деревянное сидение, и так тягостно вздохнул, что кожа на спине Павлика ощутимо похолодела, будто на нее плеснули ледяной воды, притом не задев материю футболки.
– Живу я не первый век со твоими предками. Ну, тамка, со дедами, прадедами и прапрадедами, – грусть теперь напомнила и тоненький голос Батанушки, который стал даже немножечко дрожать. – И дык вотка мене горько, чё ты не признал во мене того, ктой тобе на руках носил… Деда Лександра твово, – домашний дух резко дернул взгляд на мальчика и тот сразу охнул и впрямь угадав в чертах лица последнего (даже такого морщинистого) умершего два года назад дедушку Саши.
– Как так? – чуть слышно шепнул Пашка и губы его чуть заметно затрепетали, а в глубоких серых глазах перекатились крупные слезинки. Хозяин дома слышимо хмыкнул носом, кажись, подбирая забродившие в них сопли, даже чуточку показавшиеся из левой ноздри зелено-переливающейся верхушкой, и с той же грустью в голосе продолжил пояснять:
– Я ж домашний дух, Доброжил я, Домовой, Суседко, Сам, Доброхот, Кормилец, Дедушка, Батан, Батанушко, кто як мене величает. Незримый хозяин избы, хранитель очага и помощник семьи считаюсь. Поелику образом своим похож на старшего мужа, хозяина семьи и избы, а значица на твово деда Лександра. Ужоль-ка я тобе сей сиг покажу означение власти хозяина дома, дабы ты скумекал о чем я толкую, – дополнил домовой и прыжком вскочил на скамейке на ноги, при этом созерцаемо выгнув спину и вроде как мурлыкнув, так как это делала бабушкина Муся. Батанушко торопливо оправил на себе длинную косоворотку, чей подол дотягивался до колен, и принялся размеренно ощупывать свой ярко-синий шнур с кистями на концах, огибающий талию. Он медленно, но, верно, исследовал сам шнурок, удивительно так для мальчика, поворачивая его по кругу, маленькими серыми ноготками прочесал кисти. А после, склонив голову со всем вниманием, оглядел себя, в этот раз, впрочем, не только шнур, повязанный поверх рубашки, но и ее саму, и штаны-шаровары. Он даже развернулся вправо-влево перепроверяя нет ли того самого «означения власти» позади, и в ту же самую секунду, переведя взгляд на Пашку, широко раскрыв рот, в голос, закричал:
– Охти-ахти! ахаханьки! беда-бедовая! Горе горедушное!
– Потерял? – испуганно вскрикнул мальчишка, сопереживая духу, и принялся теперь уже сам осматривать скамейку и землю под ней в поисках непонятного «означения власти».
– Нетути… нетути, – плаксиво заголосил Батанушко, при этом расправляя ранее заложенные на лице морщинки, и пустив из глаз потоки слез на шерстку, особенно увлажняя притом ее на щеках. Еще чуточку и сконцентрировавшиеся на кончиках волосков крупинки слез схлынули обильным потоком вниз, теперь напитав влагой и саму бороду, и усы, обрызгав даже материю косоворотки на груди. Дух, также моментально перестав рыдать, сдержал на всхлипе и потоки слез, да глянув на Пашу всего только правым глазом (вроде, как и вовсе просохшем) чуть слышно, ровно его кто мог поймать на вранье, или чем еще хуже, сказал:
– Не-а не потерял, не пужайся. Попозжа усе растолкую, – и тотчас взрыдал еще сильней, пустив потоки слез из глаз на щеки и не меньшими струями сопляков выстрелил из обеих ноздрей так, что они повисли на волосках бороды, принявшись покачиваться вправо-влево и вместе с тем поблескивать в редких лучах солнышка. Впрочем, уже в следующий отрезок времени пронзительное чириканье воробьев и прежде наполнявшее этот край, не только деревню или двор, сосредоточилось, кажется, лишь на ветках яблони. Их небольшие тела сверху коричневатые, а снизу серые, пожалуй, перемешались с зеленью листвы и плодов, а пронзительное «джив-джив-джив» переплелось с резкими «чир-чирр», будто птички не меньше чем сам Павлик струсили, заслышав такие громкие рыдания домашнего духа.
Да только Батанушко заливался соплями и слезами не долго. И стоило воробьям переполнить ветки яблони, да своим чириканьем словно создать гудящую какофонию, как домовой зараз свернув излияния, да шмыгнув носом (а с тем вогнав обратно в ноздри показавшиеся верхушки сопель) вскинул голову, и, устремив взгляд на крону яблони, сурово протянул:
– Кыш, отсель… Налетели тутова… Воробей, оно и значица чё вора бей, – с очевидностью сказывая это в направлении ближайшей к нему и вовсе коричневой птицы. Может потому, как произнесенное оказалось обидным, воробей внезапно пронзительно затикал, а потом, спрыгнув с ветки, да расправив крылья, направил свой полет в сторону духа. Птица сделала над головой Батанушки небольшой круг и к удивлению мальчика прицельно какнула на него. И вылетевшая из воробья серо-белая струя, моментально преодолев промежуток до домового, попала тому прямо на густую бороду, да сразу просочившись через волоски, вероятно, напитала собой материю рубахи. Дух, однако, не стал смахивать птичий помет с бороды или рубахи. Он лишь торопливо вскинул вверх обе ручонки, да сжав кулачки, яростно ими потряс, будто желая дотянуться до улетающего воробья или тех которые все еще сидели на ветках деревьев. Хотя не первое, ни второе ему не удалось. Потому как уже в следующую секунду и остальные птицы, до тех пор вроде как примолкшие или затаившиеся в наблюдении действий своего старшего, срыву сорвавшись с ветвей и расправив крылья, понеслись в сторону домового, принявшись также прицельно стрелять в него пометом, метясь только в него и, прямо-таки, в голову. Да только Батанушко, видимо, и сам был не промах, да раскрыв ранее сомкнутые в кулаки ручки, стал не то, чтобы ловить, а именно отбивать летящие в него серо-белые струи помета, отправляя их очень даже метко в обратный путь. Поэтому вдогон улетающих воробьев несся их помет, попадая им в те самые места, откуда он ранее и выскочил. Верно, по этой причине, бомбардировка духа завершилась также мгновенно, как и началась, а воробьи, громко чирикая, покинули не только яблоню, но, пожалуй, что и сам двор бабушки, заглушив собственные переговоры и оставив фоном лишь одинокую и однотипную трель «чьеер-чер-черр».
Батанушко победно потряс руками, продолжая показывать волосатые ладошки темно-голубому небу, сегодня удивительно так переливающемуся (будто начищенная Верой Ивановной кастрюлька), и с ощутимым осуждением, теперь уже, определенно, обращаясь к мальцу, сказал:
– Ужоль-ка никыего почтения ко мене… А усе понеже отобрали у мене сие «означение власти», – домашний дух прервал пояснения и рывком качнул головой в сторону стены дома, одновременно, опуская вниз руки. И Павлик весь тот срок с широко открытым ртом и выпученными глазами наблюдающий за поединком птиц и домового, торопливо оглянулся всего только, и, увидев позади, что деревянные бревна в пазах, между которыми проглядывало грубое, спутанное серое волокно. Потому как сзади ничего интересного не было, мальчик сразу вернул голову и взгляд обратно, снова уставившись на духа.
– Дед твой Лександр кады помер… дык и усе. Пришлось мене усю власть вотдать моей супружнице… Жинке значица, Волосатке. Обаче ее по-разному кличут и Домовушка, и Домовиха, но у наших краях наичаще Волосатка. А она таковая оказалась воркотунья, да ни як ни уймется, да усе веремечко брюзжит… брюзжит. Батанушко тудака, вода убегла… Батанушко сюдытка, мыши в подполе. Наипаче мене измотала. Небось, слышишь, як наново верещит? – дополнил свою речь вопросом домовой и снова кивнул в сторону сруба. Пашка, впрочем, не стал оборачиваться, и так понимая, что ничего нового кроме стены и пакли вставленной в пазы между бревен не увидит. Однако вместе с тем внезапно услышал раскатистый окрик, точно прилетевший с делянушки:
– Панька!
– Это бабушка меня зовет, – ответил мальчик, едва поведя взором в направлении долетевшего зова. Хотя, когда он снова воззрился на домового, увидел особым образом появившееся на лице последнего недоумение. Вновь заложившиеся мелкие морщинки на щеках духа приподняли вверх собранные в пучки шерстинки, словно они там напитавшись слезами и сопляками только и могли, что смотреться закрученными в отдельные узелки.
– Кака баушка? – теперь недоумение сопроводилось и самим вопросом. По-видимому, оттого, что Батанушко был озадачен сказанным Пашкой, он внезапно и очень сильно топнул правой ножкой по поверхности скамейки, вызвав из-под подошвы россыпь мельчайших, лазурных искорок. Эти пусть и не огненные, но дюже яркие брызги света, разлетевшись в разные стороны, осыпались не только на правую руку мальчугана, прижимающую книгу, но и покрыли саму материю бермуд, на которых она лежала. Все это происходило так быстро, пожалуй, что быстрее, чем стрельба воробьиного помета, чай, поэтому Павлик сразу и не сообразил, как сама обложка, а вслед нее и ткань бермуд зачались ярким огнем, все таким же голубо-лазурным. Широкие и высокие его лепестки, кажется, перекинулись и на руки мальчишки и на кожу ног, вызвав ужас, каковой в свою очередь выплеснулся громким криком. Пашка поспешно скинул вниз на деревянный настил дорожки книжку, и, вскочив со скамейки, принялся хлопать по лепесткам огня ладошками, желая сбить с себя пламя.
Да только он зря тревожился.
Потому что стоило ему только подняться на ноги и пройтись ладонями по материи бермуд, как и сама ткань, и упавшая вниз книга махом потухли, притом не оставив на себе, или своей поверхности и малейшего намека на ранее произошедшее с ними возгорание.
– Вох! – смыкая рот, и собственный вопль ужаса, протянул Павлик, и резко развернувшись теперь лицом к скамейке и стоящему на ней духу, сердито на него посмотрел. А тот, словно радуясь всему произошедшему, распрямив и малые морщинки на лице, даже те которые пролегли по лбу, широко улыбнувшись и показав свои узенькие, острые зубы да чуть слышно хихикнув, произнес:
– Ужоль-ка вельми ты гулко вопишь, аки прям плюгавка…
– Сам ты плюгавка, – обидчиво дыхнул Пашка, не любивший когда над ним потешались или обзывали дрянными словами, как говорится и сам всегда умеющий ответить.
– Батанушко! Батанушко! – внезапно послышался тоненький зов, словно долетевший с улицы.
– У то я николеже не могу быть плюгавкой, абы дух, – проронил прерывисто хозяин дома и нервно дернул голову вниз и вперед, точно намереваясь кого ею боднуть. – Абы плюгавка то значица мышь… А кака я тобе мышь… Я ж домашний дух, Доброжил я, Домовой, Суседко, Сам, Доброхот, Кормилец, Дедушка, Батан, Батанушко, кто як мене величает. Незримый хозяин избы, хранитель очага и помощник семьи.
– Ты говоришь, так, что порой я тебя не понимаю, – сразу переставая сердиться, сказал Паша, а все потому как был очень рад познакомиться с духом. – Я ничего не понимаю… Не понимаю, о чем ты говоришь, что хочешь. Словно и не по-русски говоришь.
– Сие я не по-русски, – с особой обидой своего тоненького голоса проговорил Батанушко. И до того он если бодал воздух собственным теменем, то теперь сразу вздел голову и уставившись на Павлика изогнул нижнюю губу, кажется, ее краем дотянувшись до подбородка. Еще пару секунд и нижняя губа тягостно затряслась, закачались на ней также изогнувшиеся растущие по краю волоски, и не менее дрожавшим голосом домовой сказал:
– Энто ты не по-русски, не по-ненашенски гутаришь… И усё про энти игры, про Бларим, про того Дуракина. Усю главу бабушки пробил своим Дуракином, и руками у дык вотде машешь, кубыть кого порезать вожделеешь, – глаза домашнего духа с карими радужками переполнились слезами, и одна из капелек застряв в уголке правого, созерцаемо для мальца качнулась вниз… Впрочем, так и не выскочив, осталась покачиваться там вниз вверх. Домовой резво взмахнул обеими руками, словно намереваясь выхватить, что-то из-за спины. – Усем духам намедни Дуракином своим главу натер! – досказал Батанушко и голос его содрогнулся на каждом слоге, а может и букве, – аже Коргоруши ухаживали ко соседям, далее не желая тутова обитать, у дык вотде переживая твое суесловие, – завершил домовой, однако, так и не вынув ничего из-за спины.
– Батанушко! Идей-то ты есть! Явись-появись не мешкая! – вновь раздался тонюсенький голосок, теперь ровно вышедший из земли, а может с того самого места, где теперь лежала книжка мальчика. И дух, тотчас перестав выдыхать свои обиды в сторону Пашки, смолк, однако также чудно принялся топать обеими ножками по сидению скамейки. Он даже снова сжал кулачки и замахал ими в такт топающим ножкам, да все с той же порывистостью выплюнул изо рта длинный ярко-красный язык, будто направив его в сторону мальчишки.
– Охма! То не тобе, – проронил Батанушко, объясняя собственные поступки, и втянул внутрь рта язык. – А ей! – досказал он, и выставил вперед руку, указывая кулачком в сторону покоящейся на дорожке книге. И мальчик, следуя за рукой домового взглядом уставился на обложку, которая вместо положенных ей данных автора и названия «А. С. Пушкин. Дубровский» на сером фоне являла то ли стоящую, то ли в отношении самой книги лежащую маленькую старушечку.
Толстую и, вероятно, маленькую, покрытую мельчайшими, курчавыми волосками темно-русого цвета. Такими же темно-русыми, длинными всего только чуточкой убеленными сединой были и волосы бабуси, стянутые на макушке в шишку. Ее круглое усеянное морщинками лицо в тех волосках скрывало сами черты, хотя и с тем наблюдался костлявый с горбинкой нос, закругленный с двойной складкой подбородок, светло-алые губы, будто списанные с бабы Веры. Старушечка была одета в ярко-желтую рубашку (собранную у ворота в густую сборку да обшитую оранжевой каёмочкой) и пеструю юбку (доходящую до ступней), укреплённую на талии златистым шнурком, на которой висела серая, лохматая варежка. Бабуся в руках держала скалку, точь-в-точь, каковой Вера Ивановна раскатывала тесто, готовя пироги, и тягостно ее потрясая, как-то и вовсе истерично выкрикивала:
– Батанушко! Идей-то ты есть! Явись-появись, не мешкая!
– Видал, – горестно выдохнул домовой, снова мотнув головой в сторону лежащей на деревянном настиле книги, – вотко она, воркотунья, супружница моя есть. Волосатка. Як твой дед почил и изба лишилась хозяина, дык она усю власть загробастала. И ноньмо усё…
– Что? – переспросил мальчик, пожалуй, что обманув собственным непониманием речь духа.
– Усё поколь в ентой избе не явится-появится хозяин… пущай даже таковой жалкий як ты, бытовать мене у подручных Волосатки, – горестно досказал Батанушко и вздохнул, словно подвыв своей столь тяжелой доле. Павлик, впрочем, не видел, как у домового менялось выражение лица с сердитого на обиженное. Он даже не видел, как тот дернул, все то время направленную в сторону покоящейся книге, руку к лицу и подтер сжатым кулачком собственный нос, будто смахивая оттуда выступившее сопляками огорчение. Мальчик не сводил взгляда с обложки книжки, на которой Волосатка (как ее представил дух) внезапно неподвижно замерла, перестав взывать к мужу и размахивать скалкой, вроде прислушиваясь к чему-то. Та ее обездвиженность длилась совсем недолго, однако, заметно, а закончилась также стремительно, когда она рванула со своего златистого шнурка, охватывающего талию, серую варежку и кинула ее на пол. На пол, конечно, в отношении собственных ног, созерцаемо опирающихся об крашенную в коричневый тон ровную доску. И тот же миг, ровно и не долетевшая до пола на обложке книги варежка, неожиданно щелкнув, проявилась стоящей на скамейке рядышком с Батанушкой. Поэтому и Пашка опять же моментально перевел взгляд на нее, к собственному удивлению увидев не рукавичку, а маленького человечка, точнее все же духа. Ростом и впрямь не больше варежки, поросшего всклокоченной, серенькой шёрсткой. Маленькими, точно с пальчик были ручки и ножки того создания, выходившие с плоского, и вместе с тем широкого туловища (словом и тут контуры тела повторяли рукавичку), к которому крепилась, без какой-либо шеи, шарообразная голова. Не имелось на духе какой-либо одежды, обуви, а голова словно поместилась на кромке манжеты. Круглым созерцалось и личико духа, где из-под лохматой шёрстки проступали два ярко-голубых глазика, свернутый набок толстый, чёрный, древовидный уголёк-носик и выпирающие вперед розовые губки, кажется, подведенные тем же угольком по краю.
– Ты кто? – не дожидаясь каких-либо пояснений, спросил Павлик, увидев, как точно выкатились вперед голубенькие глазки вновь прибывшего духа.
– Сие и есть «означение власти» хозяина, дык молвить, – ответил Батанушко, и торопливо дернул руки в сторону создания, выставляя, однако, в направлении него ладони, вроде выпрашивая той самой власти.
– Кой я тобе «означение власти», – очень тихо и словно попискивая как мышка, отозвался дух, и теперь еще шире раскрыл свои бусинки глаз. – Я, Тюха Лохматая!
– А… ну! дысь! дысь! – раскатисто произнес Батанушко, роняя руки вниз и горько вздыхая. – Права ты… Сие, Пашка, Тюха Лохматая, домашний дух, присматривающий за хозяйством, да приглядывающий за хозяйскими чадами. А дык усё ж «означение власти», абы прислуживает доколь супружнице моей, Волосатке.
Во время этой довольно короткой речи домовой почасту сжимал и разжимал кулаки на ручках, иногда пытаясь их вскинуть в направлении книги, но всякий раз стремительно прерывал то движение, при этом гулко хмыкая носом, ровно разболевшийся. Тюха Лохматая, лишь ее представил мальчику Батанушко, вернула своим глазкам обыденность взгляда, уперла руки в бока (едва проглядывающие контурами), утопив в серой курчавой шерстке не менее волосатые пальчики и ладошки, да принявшись покачивать вправо-влево головой, словно желая и вовсе скатить ее с манжеты туловища, заговорила:
– Ужоль-ка Волосатка тобе задаст… Скалкой по горбу… Ужоль-ка задаст… Ты ж пошто перед мальчоночкой открылси, чай, не ведаешь, чаво такое творить предосудительно… Не можно человекам открываться, абы свою волошбу должны мы творить тишком.
– Инолды льзя, – торопливо отозвался Батанушко, и, не мешкая, стал озираться, обозревая пространство не только позади, по бокам, но и почему-то наверху. И тотчас то самое пространство наполнилось таким оглушительным чириканьем, словно ветки яблони заполонили со всех сторон воробьи. Однако птиц тех не наблюдалось на дереве, всего только продолжало звучать их пронзительное «джив-джив-джив» да резкое «чир-чирр» и ветерок порывистым своим дуновением трепетал волосы Пашки, да косматую шерстку на обоих духах.
– Льзя, ежели я жажду из мальца содеять мужа. Могу тадыкась, ему проявится в ясном своем образе, – очень тихо откликнулся Батанушко, и, чтобы его услышать Павлик даже шагнул ближе к скамейке. И точно ожидая того движения стихла воробьиная какофония, хотя и продолжилось с разных мест двора и огорода долетать их торопливое беспокойное чириканье.
– Усе едино задаст Волосатка тобе, чё без спросу того содеял. Чай, ведаешь, чаво ноньмо без ее спросу ни один домашний дух ничесь не должон вершить, – допищала Тюха Лохматая, и, переведя взгляд с домового на мальчишечку неожиданно растянула свои, подведенные угольком, губы, перестав раскачивать и собственное тельце, и голову.
– Так вас тут… в этом доме много, что ли… Не только Батанушко, Волосатка и Тюха Лохматая? – спросил Пашка, задавая вопрос обоим духам, а внутри, прямо-таки, ликуя, что домовой проявился ему в ясном образе.
Может потому что и сам мальчик засиял широкой улыбкой, а глаза его ярко блеснули, так как это порой случалось, когда он в компьютерной игре замещал Дракина, на его вопрос отозвалась Тюха Лохматая, приглядывающая за детьми и больно их любящая:
– И не токмо в избе, во дворе, но и окрест, – она теперь развела свои маленькие ручки в стороны, точно желая ими обнять этот раздольный край, – окрест нас много. И живем мы у кажном срубе, овине, амбаре, сараюшке, у гае и елани, у реченьке да озерце. Бережем мы сей край и усё чё тутова бытует. Бережем усю раздольную матушку Русь, – с особой теплотой протянула последние слова Тюха Лохматая, сказывая о единой для них всех Родине, не только для Павлика, но и, как, оказалось, для самих духов.
– Батанушко! Панька! – снова послышался зов, теперь прилетевший с разных сторон, и закруживший возле скамейки. И немедля обложка на книжке вновь зачалась огнем, только зеленоватым. Долгие лепестки пламени, пройдясь по всей поверхности книги, словно схлынули вниз, моментально впитавшись в деревянный настил, на оном она лежала. Вместе с тем обугливая саму обложку до черного цвета и изображая на его фоне белыми буквами данные автора и ее название: «А. С. Пушкин. Дубровский».