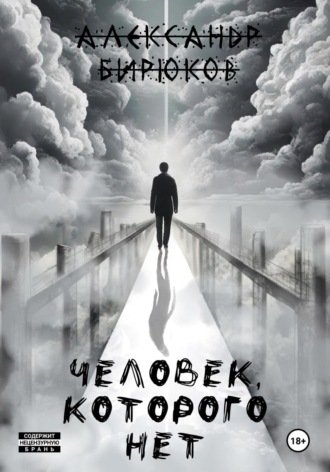
Полная версия
Человек, которого нет
Но как только я снова уперся в край небольшого кладбища, будто сделанного здесь только для меня, – только подумав: секунду, долю секунды, – и этого хватило, чтобы чуткость моего сознания начинала воспроизводить сумбурность реальности. Ноги тут же перестали болеть, а песок исчез, стоило только мне захотеть этого по-настоящему. Возможно, чуть раньше я просто наслаждался болью, как процессом явно более реальным, чем все, что окружает меня бесчисленное число повторений – фрактальных полускульптур-полутеней. Конечно, сейчас мне совершенно не хотелось идти на кладбище: снова чувствуя запах гнили, раскопанных грядок, коробок, перелопаченных деревяшек, кусочков цинка, но меня сильно тянуло только издалека посмотреть на эти чудеса, которые так приелись, затмевая само чудо смерти.
Я стал думать о ней – конечно же, не о своей смерти, – какой бы иронией мне не казались эти слова в данную секунду. Можно было бы подумать, что смерть, это некая часть жизни, если рассматривать сам путь к смерти, который включает и старение, и младость, и детство. Будто бы в ней нет ничего хорошего, кроме боли и страха. Но разве смерть не избавление от всех мук, данных человеку, как груз, чтобы он нес его всю свою жизнь. И войны – смерть как таковая: грациозная агония – предпосылка к отмиранию ненужных клеток в больном мозгу заключенных, алчных, страстных авантюристов и любителей наживы. Как странно всегда получается: вопреки эволюции, которая твердит, что выживают сильнейшие, сильнейшие не только не выживают, но и гибнут под воздействием различных факторов. Только физически развитые выживают в нашем мире, но это ли та часть, которая даст нам все необходимое: удовлетворение, сладость пережитых удовольствий, счастий; ведь в нашем мире теперь не физика решает насущные проблемы, но только усугубляет их. Элиты склонны к самоуничижению и саморазложению, что уж говорить о воздействии извне, если внутренний мир – помойка вселенского масштаба маленьких систем.
Это некий негласный закон, где говорится о том, что в мире не может все так скоропостижно развиваться, но только медленными темпами скрестись – лилипутскими шажками, и поэтому ли сильнейшие умирают первыми – чтобы уравновесить бешеные темпы ортодоксальных идей? Не локомоция ли уже изначально является фактором смерти в том виде, в котором мы привыкли ее видеть, думать о ней, ждать, заранее зная о том, что мы жертвуем своим бездействием ради достижения высшей цели: движения, развития, стремления…Что лучше: бесконечно перескакивать от вечного блаженства к ненавистному жалкому существованию, зная, что и то и другое в конце концов прекратится, открывая путь новому, бессмертному чувству жизненной энергии, теплящейся глубоко внутри, и открывающееся только от случая к случаю, или же покрыть свое существование вечным безразличием, которое начнет приносить свои плоды только в нескончаемо меняющейся конъюнктуре общественных благ?
Война уничтожает несправедливость быстрого развития, чтобы как можно больше людей смогли внести свою толику в процессы эволюционного прогресса, в то время как наше с вами сознание говорит о том, что эта смерть, страшная по своим размерам, разруха, голод, только и делает, что уничтожает культуру, этногенез. Но с какой же точки смотреть на все эти понятия? с точки зрения себя самого – своего понимания, или же с точки зрения общемирового масштаба (что даже при таком раскладе будет не всегда правильно: в моем мире ничего нельзя раскладывать, потому что он субъективен – воплощение меня самого, моих мыслей, действий, воспоминаний, кажущиеся волей судеб и свершений, но являющиеся только страстным безразличием к общественности). Но правда ли все это? Не будем трогать понимание, а главное желания людей, уверенных в своей ценности – мнения которого они не в состоянии изменить и уж тем более ощутить, потрогать и почувствовать, собирая все чувства вместе, но даже в таком случае не понимая всей картины в общем.
Война была и в моей голове. Она атаковала мои паттерны, заставляя снова и снова менять восприятие мира, что было весьма неприятно: ломала изнутри, выворачивая мясистые части тела за пределы кожного покрова; кости ломались, а потом, штыками, вываливались наружу, прорезая плотные упругие, но в то же время мягкие, как пушистый мех домашнего кота, оболочки рук, ног, груди. Как после революции, – мне нужно было время, чтобы восстановить резервы, которые только на первый взгляд кажутся неисчерпаемыми. Никогда не знаешь, где есть правда, а где ложь, ведь чтобы понять это, нужно всего лишь отбросить предрассудки; но не жизнь ли главный предрассудок, не само существование человека главнейший из предрассудков? Конечно, если считать, что моя всевозможность – это просто сумасшествие больного человека (чего уже я не берусь утверждать), теряющего понимание реальности, отделяя его от простого течения жизни гладкой стеклянной стеной сумбурности и беспечности, то все будто бы отдаленно принимает черты правильности, что ли. Страх потерять себя является самым что ни на есть глупым и ненужным пороком в жизни каждого из нас. Я уже давно откинул этот страх, мешающий существовать так, как хочется.
Почему-то кладбища всегда окутывает тишина, словно кто-то намеренно делает так, чтобы люди могли в спокойствии, без лишних шумов и принуждений к скоротечности времени, быстроты темпа, попрощаться с теми, кто им дорог. Их лица выражают всегда уныние и горечь утрат, но уже выйдя за пределы филигранных золотых ворот, окружающих эту божественную консистенцию смерти, начинают смеяться, а порой и просто забывают о том, что только недавно стояли в пределах потустороннего мира. Наверное, это само кладбище наводит такую тоску на гостей, чтобы те не смогли испортить атмосферу праздника загробного мира. Меня такие вещи никогда особо не волновали.
Я стоял супротив уже миллионы раз виденной плиты, под которой покоился мой старый, пожелтевший от времени, захудалый от голода, простывшей от холодной промерзлой земли, в которой шуршали черви, питомец. Я снова видел углубление, а рядом выкопанную землю, которая горкой, неким терриконом этого вечно гниющего кладбища, возвышалась мне по пояс. В памяти никак не мог возникнуть образ того, кто должен там лежать, кто был мне когда-то близок – даже ближе, чем мать и отец. Почему? Неужто он исторгал меня из своего чрева? самозванец – животное, которое я считал своим домом: мягким, пушистым, невероятных размеров с большими паласами, окнами из слюды, плохо пропускающими свет, яркими лампами, свисающими в форме груш мне до подбородка, с буржуйкой и примусом, всегда сломанным, но исправно работающим после того, как по нему хорошенько зарядить ногой. Ничего в этом страшного, конечно, нет, просто мой мозг снова давал сбой, пропуская через фильтры памяти только самое нужное, самое важное. Это ли не странно, что мозг, формулируя эти доводы, просто спорит сам с собой, уже изначально зная, что спор не имеет конечной цели, зная, что это он сам себя описывает в летописях времени моего сознания.
А вот и животное, которое я никак не мог вспомнить. Оно бегает рядом: еще живое, теплое, но с прорехами в теле, с проплешинами в шерсти; разрубленное пополам, но соединенное воедино, оно представляло собой помесь пса и кота. Я никак не мог вспомнить, кто из них двоих был мне моим любимым домашним животным. Длинный пушистый кошачий хвост, дугой поднятый вверх, описывающий как бы траекторию бомбардировщика моей личной, внутренней войны, кошачий зад, маленькие, но мясистые ноги, посаженные по-собачьи, кошачий зад, выше пояса была собачья голова: уши торчком, влажный, большой и черный в крапинку нос, большие глаза с частичкой страха и умиления, вострая морда, исхудалые ноги –неказистее и слабее, чем задние кошачьи, – а язык, высунутый вперед, болтался как будто держась на ниточке, готовый отвалиться в любую секунду, – это все был мой питомец, которого я так любил, но был не в состоянии узнать. Я знал, что должен это сделать, просто должен, и любые пререкания здесь были ни к месту. Мне было даже приятно наслаждаться каждой минутой трансцендентного воплощения смерти, хотя я каждый раз делал это снова и снова, но чувствовал, будто делаю это в первый раз. «Погладить ее, чтобы дать понять, что все хорошо, чтобы она не убежала…» – думал я, садясь на корточки рядом с ней. Крепкий захват, а потом бросок в эту бездонную яму, где даже черви боятся выползать из стенок плотных пород. Жалобный вой никак не может меня напугать, рассмешить, разжалобить, – теперь я стал похож на тех людей, который приходят сюда под видом праведных христиан, скорбящих о своих близких. Когда осталась одна лишь голова животного, я на секунду остановился, заканчивая ссыпать землю в котлован. Жалобные глаза преданно смотрели на меня, я преданно смотрел в ответ, продолжая сыпать землю сухими руками. Последний всхлип – то ли мой, то ли этого бедолаги, взгляд которого я уже успел забыть, – а потом еще несколько телодвижений, сравнивающих землю. Снова земля над губой – случайный след, оставленный невпопад, – и снова запах: тошнотворный, гадкий, но приятный и греющий душу своей противностью, такой же мерзопакостной, как и я сам.
Уход с кладбища сохранил звуки моих шагов, позабытых здесь: за пределами золотых решеток. Напоминанием было только хриплое улюлюканье, доносившееся с той стороны филигранных пластов, песнями крылатых созданий вызывающих чувство прекрасного, что называется «засосало под ложечкой», но, поскольку этот хриплый полустон угасал по мере моего отдаления от периметра смерти, уже через несколько минут ходьбы я перестал воспринимать сумбурные звуки, доносившееся издалека, проникающие напрямую в ухо, смешивающиеся с ветром, который в сговоре мнимых птиц передавал просьбы усопших. И снова дорожка моего вечного, бессмертного пути: ртутной дорогой мерцали огни, отскакивающие от антрацитовых кусков асфальта, раздробившегося в жилах времени. Конечно, время не могло встать на месте, это было видно хотя бы потому, что люди все еще ходили, вышагивая бесконечный марш революционных событий, птицы летали, вымахивая крыльями ветровые аллюзии. Я смотрел на себя со стороны, осознавая движения, мысли, которые неслись в потоке сознания еще задолго до того, как я смог что-то сделать, подумать о них, понять, что нужно о них думать, осознавать. Время шло, но шло оно внутри застывшего фрагмента бесконечного фрактала, бесконечно нажатого тормоза спортивной машины, ждущей фотофиниша своего бампера в момент пересечения линии, блистающего белизной и вздутой от жары волдырями краской. Время двигалось, но двигалось медленно, как бы спрашивая меня: «Простите, пожалуйста, не могли бы вы разрешить мне немного ускориться? Нельзя ли мне – я очень прошу простить меня за такие слова, если можно так сказать, богохульства, – хоть на микрон, на йоту продвинуться в мое обыденное состояние? Нет, что вы, ведь я всего лишь спрашиваю, – нет? жаль, прошу простить меня за это…» – дрожащим голосом, спрашивало оно, будто старик, боящийся своего начальника, еще не прочувствовавшего на себе, что значит старость, что значит быть немощным и никому не нужным. Время остановилось здесь на том моменте, где ему однажды вздумалось, и с тех пор не продвинулось вперед, считая, что нужно еще бесчисленное множество раз вышагать по пройденному ранее пути, чтобы узнать, уличить в измене каждую мелочь, каждую букашку, сомневающуюся в моем величии и величии временной петли. Как интересно наблюдать за омоложением рук, когда те никак не могут взять граненый стакан, а потом вдруг детскими ручонками начинают делать пузыри в нем, будто бы за несколько секунд поменялась общемировая конъюнктура пространства и молодости, причастной к этому небезызвестному фактору времени, где только я контролирую эти безумства, ставшие паттерном за столь долгий период вращения моего города по плоскости Земли. Осовевшие люди зиждились на понятии микровремени, думая, что основная их цель, это жить ежесекундными возгораниями в толще заиндевелого льда (как бы двусмысленно это не звучало), но забывая, что впереди есть множество таинств и загадок, которые теперь же они попросту не в силах обуздать, понять, привыкнув к тому, что есть только миг, который они должны прожить, пробездельничать, прождать, проспать, проумереть, просидеть, поджав ноги в определённом положении. Здесь только я – бог временного континуума, ощущающий время в воздухе как сжиженную массу, только я могу понять, что происходит со мной, уставшей сомнамбулой бессмертного тела без духовных ценностей и души.
С крыш начинало капать. Одна капля упала мне за воротник, холодом пробираясь через сложные лабиринты плеч и лопаток, скатываясь по позвоночнику, по хребту моего тела, словно выделывая новый ручей, спешащий спуститься в низины, чтобы там образовать озера, – точно так же капля спускалась все ниже, подбираясь к копчику на непозволительно близкое к интимным местам расстояние. Зима начинала постепенно отступать, но до ее конца оставалось еще очень и очень долго. Я не помнил, чтобы в этом городе раньше все так быстро менялось: такого не было уже очень долгое время, а значит что-то изменилось, что-то порезалось, заливая белыми массами городские площади и мое пальто. Такое ощущение, что ответ где-то близко, и чтобы поймать его, нужно просто протянуть руку, – но руки коротки, пальцы еще короче, а это давало пищу для размышлений, давало возможность, но не ответ, который был ближе, чем можно было бы подумать. И снова мимо проходили люди… без голов… пустые шеи, с маленьким белым кружочком по центру; подернутые плечи, заваленные у кого-то немного вперед, у кого-то немного назад, но всегда – у всех без исключения, – куда-то да заваленные, как Пизанские башни, не решившие, куда им нужно падать. Если бы у них были бы головы с глазами – что немаловажно и имеет определенный смысл, – то из этих самых глаз обязательно бы тек горчичный, горький, как уголь, мед, с кристалликами голубого льда, – глаза бы выплевывали всю ту хворь, скопившуюся в теле этих не по-человечески правильных животных, считающих себя белыми и пушистыми зверками современного мира бездействия и блаженств, на самом же деле являющиеся только безголовыми пнями, засохшими от мыслительных процессов, которые забыли выключить в тот момент, когда они начинали гнить.
Тропинка, по которой я шел, вела меня куда-то вглубь желанных встреч, сокрытых в подсознании, но таких реальных здесь, в том месте, где можно не бояться упасть, не бояться опозориться. Куда меня ведет эта тропа? В иной ли мир? или, быть может, она снова хочет показать мне боли, пережитые ранее, теперь же сургучами стекающие по ушам, бровям и губам, чтобы я не мог ни слышать, ни видеть, не разговаривать. Куда, куда ведет меня эта злосчастная тропа, изгибами скрывающая дали, чтобы я не смог увидеть продолжение дороги.
– Как бы это не было банально, но всегда приятно поговорить с умным человеком в своем лице, – подумал второй я, который появлялся очень редко и вместо разговора сакраментально испускал сарказмы.
По мере продвижения вперед вокруг меня сгущалась дымка, похожая на марево. Все было видно предельно хорошо и явственно, хотя смотреть-то здесь было особенно не на что: пустые стены, отражающие звуки шагов и мою монотонную речь, проблески травы из асфальтовых прогалин, пучками вывалившиеся на свет – в смысле переносном, так как света тут не было и в помине, – а также кусочек неба, колоритно выделяющийся среди пустоты чернеющего вакуума. Марево расщепляло четкость картинки, представляя ее в свете совсем ином, нежели есть на самом деле (а почему же не это есть то самое дело, которое в другое время меняется, а?), преобразуя ее в импрессионизм. И чтобы можно было хоть как-то узреть четкий образ предмета, приходилось смотреть на него издалека, вблизи же все являлось бесформенной мешаниной, едва различимой: чем дальше предмет, тем отчетливее он был виден, чем ближе – тем хуже. Все зависело только от положения смотрителя – то есть меня, – а значит было абсолютно неуправляемым, неконтролируемым безумием моей беспечности и вольнодумия. Исказившиеся пласты постепенно складывались в четкий контур, а затем раскладывались на фрагменты обратно. Я смотрел будто бы на картины, который не имеют рам, отчего вся подноготная медленно расползалась, захватывая прилегающие области. Проходя сквозь них – внутрь них, – я оказывался в том самом месте, где и находился несколько секунд назад, – на той тропе, серпантином скатывающейся с холодных каменных гор… И я блуждал средь этих стен, гор, равнин и троп, похожих на арыки древних селений. Пленка мороза – так как все же была зима, а значит и холод никуда не делся, давая о себе знать паром, выходившим изо рта и носа, – ласкала эти тропы. Но и марево не могло жечь мои глаза бесконечно, и, когда я привык, различив конец меандрам троп, вдалеке потихоньку начали проявляться очертания беседки, стоявшей изгоем на абсолютно ровном и пустом плато. Какие-то картины в оправах все еще преследовали меня на узких стенах средневековых замков, но уже заметно редели, оставляя все больше места для девственной простоты серых кирпичей с моими любимыми трещинками в бетонных щелях отвалившихся соединений.
Подходить к беседке должно было быть как-то страшно (к чему этот трюизм?), необычно, по крайне мере, я должен был испытывать хотя бы какие-нибудь чувства, но я ничего не испытывал, даже обыденного интереса. Полупрозрачный, знакомый мне туман стелился вокруг беседки, не пропуская взор за пределы очерченной вокруг территории, разрешая видеть лишь все части этого ветхого строения и не дальше двадцатой части версты за ней. «Наверное, закрывая этим бесконечность и неортодоксальность этого места», – мельком подумал я. Вот что было удивительно: пройти обратным путем уже было никак нельзя, жидкий, но все же какой-то плотный, не пропускающий меня сквозь воздух туман, встал, перегораживая мне путь назад, словно пограничник, разрезая еще недавно свободную плоскость на несколько неравных частей. Теперь нельзя было не то, чтобы пройти там – через маленькую невидимую станцию, где меня уже, кажется, поджидали, – но и просто посмотреть туда.
Виридиановая будка, скукожившись и полуупав, стояла набекрень, – сочилась из промерзшего грунта, отражавшая свою незыблемость. Вокруг стелился белесый туман, но он не был статичен в своем естестве, в своем цвете, который время от времени переливался, становясь совершенно отличным от прошлого себя бирюзовой пленкой сырости и влаги; темная бирюза медленно таяла, окружая землю в темно-зеленые цвета, но наст не давался кристалликам цвета так легко, – напрягая свои жилы, исторгая в воздух эти пигменты обратно, туман снова приобретал сахарный вкус виридиановой ваты. Будка-беседка, стоящая, видимо, здесь уже не одну бесконечность, тоже отдавала этими зелеными оттенками, хотя, если приблизиться к ней и всмотреться, то можно было увидеть палевые прогалины густой засохшей краски, островками напоминавшие древность этого места; все остальное обросло слоем мха, облепившим деревяшки. Давным-давно мох застыл липкой массой в этом месте, и с тех пор ничего не изменилось.
Двери с запотевшими мутными стеклами раскрылись, и я вошел туда, не боясь, что со мной может что-то случится, так как я прекрасно знал, что это только игра моего воображения, которое в угоду себе не сможет причинить вред самое себе, – такие вещи не стоят ни в какое сравнение с инстинктами.
Внутри первое время была абсолютная темнота, и это несмотря на то, что повсюду, как я заметил ранее, по всему периметру беседки были окна, не мутные, не затемненные и даже не запотевшие, как это было со стеклами у входных дверей. Но через секунду, когда я прошел немного вглубь, и когда двери за мной бесшумно захлопнулись, изолируя внутреннее помещение от внешнего мира, холодного и чужого, стало необыкновенно светло: все предметы стали отчетливо виднеться в сырой прокуренной летней беседке; за пределами окон виднелся весенний свет, источаемый солнцем, легкие колебания ветвей: влажные от дождя и яркие от преломления света, а еще оттого, что вокруг все благоухало и светилось изнутри, давая жизнь этому месту. Травы не было видно, но каким-то местом я чувствовал, что и она была такого же насыщенного лазурно-зеленого цвета. За столом сидело два человека, которых я заметил не сразу.
– Здравствуй, – сказал мужчина сорока лет с пепельно-смольными волосами: часть их была черными, а другая часть седыми. Рядом сидела женщина, отстранённо поглядывая в сторону, боясь поймать мой взгляд на себе, но когда это все-таки происходило – именно в тот момент, когда она смотрела в сторону, а я на нее, она поворачивалась, – она смотрела на меня в упор, и уже мне приходилось сдавать позиции и смотреть на мужчину. Они сидели покорно, не шевелясь, ожидая, что я им отвечу на приветствие, наверное, думая, будто это обязательная, формальная часть встречи.
– Здравствуй отец… здравствуй мать… – тихо, без энтузиазма, спокойно, выказывая безразличие своим тоном и видом, ответил я.
В их виде было столько неказистой, жалкой притворности, что хотелось развернуться и уйти, но я знал, что мое подсознание не выпустит меня отсюда до тех пор, пока мои чувства, даже внутренние, сокрытые, не придут в равновесие – к тому безразличию, которое будет равносильно смерти. У них не было рук, но только маленькие огрызки, торчащие из плеч маленькими комочками сухожилий, гладкие плечи, кое-где оскверненные ожогами, несколько родинок с торчащими из них черными жесткими волосками и широкими порами. Они едва заметно вращали по часовой стрелке своими недоруками, будто думая, что меня это может разжалобить. Под столом волочился пес, а на соседнем стуле, развернутом ко мне в семьдесят градусов, сидел пушистый кот, вылизывающий себя языком. Я постепенно начинал понимать, осознавать, что помнил когда-то (именно осознавал свои воспоминания, но не помнил их как таковых), что помнил когда-то это все: питомцев, которые из-за невозможности до конца вспомнить их представлялись мне единым целым. «Неужели и в его теле органы распределялись в зависимости от принадлежности, делясь ровно по той линии, где были наложены швы?» – думал я, вспоминая мутанта, которого я закапывал живьем на кладбище не раз.
Пес видимо узнал меня, и теперь преспокойно гулял вокруг меня, временами кладя мне на грязные колени лапу, надеясь напрасно, что я протяну ему свою открытую ладонь. Кот, переставая вычесывать себя розовой мышцей, время от времени смотрел на меня, но делал вид, как мать, что смотрит куда-то вбок, дабы не встречаться взглядами. Журчание, которое источало его тело, я слышал даже отсюда, – вибрации тела доходили до всего меня: до моего надутого живота, мочек ушей, потухших глаз, которые не могли преодолеть тряски и начинали видеть картинку расплывчатой вязкой массой. Сначала я думал, что пес просто рад видеть меня, или, быть может, хотя бы рад новому знакомству, не узнавая до конца – я слишком сильно постарел и изменился с того момента, когда я его хоронил (я все же четко помнил, как клал его в яму на том самом кладбище, когда был еще ребенком, прощаясь с ним); видя меня совсем другим существом: слепым и глухим к чужим мольбам, – я слишком много раз умирал, чтобы сохранить запах тела таким, каким оно был еще тогда, в отрочестве, – оказалось, что его желание трогать меня своей холодной лапой, прикасаться проплешинами, упираться головой в мое бедро было ни чем иным, как почтальонским желанием доставить до меня смысл его желания – показать письмо, лежащее на столе, – достучаться до меня этими грубыми насмешками над человеческим понятием ласки и привязанности.
Я взял письмо в руки, как этого хотел пес, теперь же не только прекративший всякое нежное насилие надо мной, но и смотрящий на меня, словно говорящий: «А теперь читай, смерд! Я хочу, чтобы ты прочел это». В глазах родителей виделись похожие замашки, но все же более мягкие, обусловленные все-таки как-никак нашим родством, появившимся тогда, когда я вылез из матери.
– Ты должен это прочитать. Пес ведь не просто так на тебя смотрит преданными глазами, – бессловесно твердили они в унисон, а потом рассмеялись. Хотя этого, кажется, не было – наверное, показалось.
На листке были выведены различные закорючки всех разновидностей и витиеватостей, ограниченные только пределами листа, хрупкого, как хрусталь, сыпучего, как сахарный песок. Я не видел полосы, пронизывающие лист вдоль и поперек, за пределы которых ни на миллиметр не выходили закорючки – для меня они жили своей жизнью, но только внутри определенных границ.
Мне были непонятны родительские упреки; неприятны были глаза, устремленные в мою сторону не только отцом, матерью и псом, но теперь уже и котом, занесшим ногу за голову, прекратившим свой туалет только для того, чтобы посмотреть на мое бессилие, непонимание и глупость. Мать была расстроена моим поведением: я снова видел себя нашкодившим ребенком в ее глазах, теперь стоящим с опущенной головой в слезах и девчачьем платье, надеясь провалиться под землю, но не всерьез, а только на секундочку, чтобы почувствовать боль, испытанную женщиной, из которой я когда-то с такой же болью вылез; отец, не смущаясь чьего-либо присутствия, думал, смотря на меня: «Почему он такой идиот, неужели это проделки этой женщины, чтобы разозлить меня? или он просто такой, – не может понять, что нужно просто взять и прочитать то, что написано на листе?» Пес ничего не думал, его песочного цвета глаза преданно смотрели на меня, теперь уже по-настоящему признав меня, не по запаху, не по виду, но сердцем, которое я отдельно хоронил, преждевременно вырезав из его груди. Пес, конечно, узнал те кончики пальцев, аккуратно вытаскивавшие его алую мышцу, не ради развлечения, не ради хвастовства или насмешки, но ради идеи: похоронить самую лучшую часть животного, самую сильную и самую важную с особыми почестями. У глупого кота свистело в голове, а задранная кверху нога стала похожа на скипетр, который он обхватил двумя лапами, – чертов монарх, коронованный принц.








