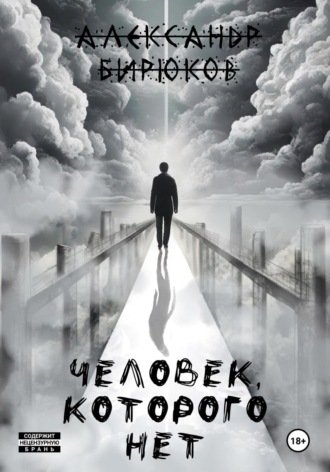
Полная версия
Человек, которого нет
Как странно было видеть несостоятельность времени в нашем мире… в моем! Скрещивание двух бесцельно прожитых жизней, время которых протекает именно в моем мире, где реальность обуславливается лишь осознанностью моего внутреннего я мной. Ведь то, что я живу – это определенно важно только для одного меня, и больше ни для кого. Одинокая нить, показывающая предназначение судьбы, которая будет проходить еще миллиарды раз сначала и имеющая миллиарды однотипных концов, но только в других фрактальных вселенных, где все эти мысли уже думались и будут думаться снова. Черт возьми, это все было! Все было! И все будет вновь!..
Моя тень начала догонять меня, и на секунду меня это поразило, ведь она все же отклик настоящего, но никак не само настоящее, к которому тень так спешно приближалась. Она не могла слиться со мной. Мне было намного комфортнее в той реальности, где я был нематериален, а значит, ирреален и пуст.
Отражение-тень догоняла, но я не мог ей сопротивляться, но вместо этого смирился с ее стремлением поравняться со мной и стал ждать, когда та ворвется в мое тело. Но, вопреки ожиданию, тень не вошла в меня, а побежала дальше, отражаясь в витринах точно так же, как и я. Теперь уже мне пришлось догонять ее. Я видел, как, спотыкаясь, падало мое отражение на асфальт, издирая брюки до дыр, а затем отряхивая руки от грязной черной воды, бежало дальше; за тенью, напротив того места, где падала она, падал я, точно так же издирая брюки и точно так же отряхивая руки от водной пленки. Мы были нереальной субстанцией, потерянной в реальности этого мира, и теперь мы боролись за выживание, показывая, кто из нас все-таки реален, а кто нет, будто бы проигравший мог раствориться, давая жить тому, кто окажется впереди этого «грязного» марафона.
Отражение остановилось, а затем остановился и я, вглядываясь в неразборчивый силуэт пиджака и измятой шляпы на голове этого проходимца, назвавшегося мной по чистой случайности. Он трогал витрину с той стороны точно так же, как я еще недавно трогал витрину в самом начале этого забега. Затем я, поддаваясь необъяснимой силе, стал повторять за своим отражением, трогая витрину так, как трогал он. Я не видел, как косились на меня люди с той стороны стекла – в магазине, – не осознавал их важность, реальность, и вообще их существование. Мне стало очевидно ясно, что между этим забегом лежит временной отрезок, смешавший меня со мной же, что я сейчас касался самого себя в том времени, когда я был в начале этого квартала и трогал себя, но только прошлого себя; теперь же я трогал будущего себя, себя, который будет на том месте, где я стою сейчас, но только чуть позже. Я видел свое лицо в отражении, но не видел себя тем, кем являлся в данную секунду. Запах гнили и земли снова мягко ударил в голову, словно удар подушкой в разгар алкогольной подростковой вечеринки. «Все не реально! Здесь только я реален, только я создатель, но не ты!» – тыча пальцем в стекло, говорил я, повторяя лишь движения моего визави, вспоминая, что еще сам недавно тыкал в витрину, ожидая, как тень тыкнет мне в ответ.
Желтые зубы, шероховатость которых я ощущал языком, истошно болели, нагнетая пульсирующую боль под самый корень, где тот связками впивался в основание десен, облачая их красно-розовым цветом, чтобы я мог видеть натуральный цвет крови у себя во рту каждый раз, когда вглядывался в зеркало. При вдохе ноздри медленно сужались, а при выдохе расширялись: и воздух имел плотность, которая по десятибалльной шкале варьировалась от трех до четырех; иногда воздух, конечно, достигал условной единицы в пять баллов, но только в том случае, когда мой мозг кипел, бурлящими пузырями слизи взрываясь, как волдыри, в моей голове, выдавая ошибки созданной реальности, и тогда казалось, что дышать в том понимании, к которому мы привыкли, уже нельзя, и тогда приходилось руками вдалбливать воздух. Как будто выковыривая его из бадьи с медом, я руками загребал вязкую жидкость, а потом пихал в себя, чтобы вкусить сладкую вязкость загустевшего нектара, собранного мелкими паразитами, которые, в отличие от нас, знают, что такое ходить строем. А потом, когда слезы выталкивали мед из глаз, я смотрел на светотень и думал: «Наверное, такой нектар употребляли боги, пуская его внутривенно».
Вот что было интересно: на мгновение я погряз в образах, представляя себе паразитов, развивая эту мысль. Я не думал о том, что хочу сказать, потому что, скорее всего, это наверняка произошло бы по-настоящему. Огромные, ростом с человека, пчелы с касками на голове цвета хаки, с винтовками в руках, на которых блестят штыки, их черно-желтые тела, где ворсинки плотно прижаты к телу, измазанные нектаром цветов, которые устами провожали своих любовников на войну, их обезумевшие, но в то же время пустые глаза, нацеленные только на то, чтобы убивать, не зная жалости, их мохнатые лапы и грязные рты с огромными клешнями, которые спокойно откусывают шею, обхватывая головы людей, даже не замечая, что она полностью соткана из жил; огромные теперь усики, которые впиваются в глаза своему противнику, выдавливая все виденное человеком, забирая все это себе, и пугающие, до боли пугающие, огромные бездонные глаза, которое они смотрят одновременно никуда и в то же время видят все. А за этими бессмертными полками стоит их матка, чьи размеры в сотни раз больше обычной пчелы. Она не убивает, но только поедает размазанных до однородной массы врагов, чей кровяной сок так сладок. В стороне стоят шмели, такие же большие как войны-пчелы, но они, в отличие от кровожадных убийц пчел, просто стоят в стороне, придерживаясь нейтралитета, смотрящие как огромные насекомые вскрывают животы людям, а затем раздирают их внутренние органы своими мощными клещами. Тогда действительно стало понятно, почему некоторые говорят о насекомых, как об особях наиумнейших, вот только заключается ли это в том, что они могли бы действительно уничтожить нас всех, имея такие же пропорции тела как у людей? или дело только в том, что они не умеют убивать по своему желанию? в отличие от человека…За время моей прогулки в голове проскакивали картинки моих мысленных свершений, и они, хоть это и не было так заметно, влияли на мой мозг и нервную систему, как сильнодействующие галлюцинации, постепенно, но верно. Я не видел ничего необычного, но уже через несколько минут окружение начало меняться.
Каждый из нас по-своему несовершенен. Несовершенен был и я: я всюду видел преимущественно серые цвета – хотя порой я все же выхватывал кусками неподдельные насыщенные цвета, – но чаще всего (почти всегда) мне приходилось довольствоваться серостью окружающего мира. Называя передачу цветовой палитры, которая являлась в моей голове сложной вереницей слов, я попросту врал, говоря, что вижу что-либо в красках. Облака казались вдалеке серыми пятнами, такими же были и люди, чьи лица я насильно перевоплотил в то, что сам хотел в них видеть. Мне не было понятно только одно: почему в их лицах я видел незнакомых мне людей, хотя было логично узнавать в них знакомые черты когда-то мельком увиденных проходимцев. Но этого не было, и мне случайно пришла в голову интересная мысль, объясняющая это: «Значит, в моей вселенной существует еще один, кто меняет и создает – перевоплощает мою реальность в нечто совершенно необъяснимое, в нечто сложное и противное мне!» Но это было только предположение, и насколько оно могло оказаться правдой сказать было трудно, но все же, отложив на антресоль моей темной внутренней пустоты эту мысль, я, освободившись от напастей наплывающих идей, побрел дальше.
На площадке качались дети, и в тот момент, когда я проходил мимо них, их взоры по установившейся траектории снизу и по диагонали вверх – в сторону моей персоны, как по какому-то волшебному щелчку утреннего будильника, звавшего в уборную, останавливались на мне. Их детские (но пусть вас это не обманывает) глаза поедали меня – милые детские глаза, – но как только я начинал видеть в этих глазах потенциал к способности мыслить самостоятельно, я терялся, и тогда их глаза становились осиными бездонными зрачками во весь размер глаза диаметром с кулак. Я стремился как можно быстрее пройти мимо них, но оторвать свой дальтонический взгляд от их огромных зрачков никак не получалось. Они словно специально искали мой взгляд, используя грязные приемы, цепкими лапами хватая и удерживая до тех пор, пока моя голова не скроется за домом, мимо которого я проходил, и за углом которого я уже не мог лицезреть детские ужасающие глаза, размером с машинные фары, освещающие мрак. Я знал, что эти огромные глаза будут расширяться до тех пор, пока не поглотят хрупкие тельца детей, ломая их кости внутри их же тела, тем самым поглощая материал для становления нового мира, соперничавшего с моим в параллельной вселенной.
Пришлось немного потеряться в бесконечных улицах и проспектах захлебывающегося города, уставшего от бесконечного наплыва людей. Не то, чтобы это было необходимо – потеряться, – но это было мое личное желание… за титанические усталости, способность пропускать через себя бешеный нескончаемый поток информации и даже чувствуемой части человеческих желаний. Это было мое первое желание, когда я делал ровно то, что хотел, а не то, что от меня в той или иной мере требовалось; могло казаться, что человек всегда делает то, что хочет, но только не в этом мире, не в этой жизни, не в этом теле, нет! точно нет. Начинало мутнеть в глазах, отчего мир казался немного лучше, чем был несколько минут назад.
Каким-то неведомым образом я оказался на уже знакомой мне улице, состоящей сплошь из голубых витрин. Тело никак не реагировало на странное стечение обстоятельств вневременного хода событий, но мозг явно начинал вибрировать, постепенно разрушая тонкую корку – своего рода клетку, защищающую мозг от внешнего воздействия; но ровно в данную минуту корка давала очередную трещину. Я знал, что жить оставалось недолго. Странно было бы вот так умереть в том мире, который я же и создал сам; но таковы правила вселенной, и для всех они одинаковы вне зависимости от принадлежности, кастовости, нужности: не важно каков потенциал, сколько денег за спиной и сколько прожито – это все ничего не значит.
В этих голубых витринах я видел бегущего себя, но теперь я не бежал, а только смотрел на то, как прошлое постепенно вмешивается в настоящее, меняя будущее, которое никогда не настанет, уступая место настоящему, консервируя прошлое. В отражении витрин мне приходилось видеть отражение отражений витрин, где бежало мое отражение: сначала заторможенное, потом предупреждающее время. Мне не было страшно, отнюдь, но я чувствовал, как все это начинает не то, чтобы сводить меня с ума, но давать странное представление о знакомом – теперь уже совсем чуждом – мне мире. Мне странно было видеть три цепочки развитий: настоящее – то, где был я; прошлое – где убегал от собственного себя я; и искаженное прошлое (прошлое-прошлое), где моя тень догоняла, а затем точно так же, как и я, убегала от меня. Со стороны теперь было вообще не понятно, кто там является настоящим мной, все смешалось: прошлое, настоящее, что-то забытое и мгновенно вспомненное. А настоящий ли я? Может быть, я являюсь отражением в луже, разлитой на холодном осеннем асфальте в соседнем дворе моих представлений, где мой мир является только фракталом, случайно сформированным продолжением настоящей жизни того, кто мимоходом взглянул в ту лужу. Я мог вспомнить свою жизнь, но моя ли она? не того ли человека, забывшего свои ключи дома, наступившего в лужу туфлями и потоптавшегося на асфальте, тем самым дав толчок, дублируя свою жизнь в спокойной глади маленькой грязной лужицы?
Мигрени, мигрени, мигрени – они сдавливали мозг ранее растаявшей, а теперь снова замершей коростой льда, которая не охлаждала, но только обжигала всего меня, сковывая члены и полые руки, ноги, глаза и органы. Пришлось сесть, потом лечь на асфальт и барахтаться, словно душевнобольной, катающийся по полу психиатрической больницы, надеясь, что эти перекаты минимизируют головные боли, проедавшие голову от корки до корки, как черви, как маленькие капли, падающие на темя, съедающие кожу и кости до основания, оставляя после себя маленькую впадинку. Было невыносимо больно, но в то же время приятно, приятно оттого, что скоро это должно закончиться, и я с нетерпением ждал момента, который разом должен был прекратить все мучения, открывая дверь в уже знакомый мир ненависти и незыблемой тщательно контролируемой страсти – жажде к жизни. Глаза лепетали Лебединое озеро пестрыми фалдами балерин, но я ничего не видел, как будто ослеп.
Но вдруг рядом пролетели формы глаз, не облачных глаз, а настоящих человеческих женских глаз, тушью выведенные ресницы, одернутые в сторону лазурного неба, тени, подведенных снизу белка, где глаз распластался в синеве невиданных мной красок, как яичница в ржавой сковороде, скобленная алюминиевыми вилками: желтый зрачок и бесцветный белый белок, окантовывающий черно-желтое пятнышко. Потом глаза исчезли, льстиво поглядывая на мой запачканный пиджак; кто-то загородил мне свет.
– Здравствуй. Как же давно я не видела тебя… – сказала женщина, всматриваясь в мое лежащее на асфальте тело.
Я не видел ее лица полностью, но только слышал то, как она представилась, видел ее улыбку – едва одернутый оскал на лице, который прожигал ее губы сочным соком слюны, и еще часть носа – самый его кончик, заостренный, как стремящийся к небу ятаган из дамасской стали; но выше этого кончика носа ничего не было, будто плотное марево закрывало область выше того места, за которое нельзя заглядывать. А потом она растворилась. Я моргнул, широко открыл глаза, разрешая тусклому дневному свету просочиться сквозь прозрачную роговицу моего полумесяца. Тишина. В ушах едва различимо постукивали шаги проходящих мимо людей, которые, к моему очевидному удивлению, совершенно не замечали меня, наступая мне на руки, на ноги, а порой и на уши, придавливая их к тротуару. Хотелось убежать, уйти, раствориться.
Поднявшись и отряхнувшись, я огляделся по сторонам. Теперь уже не было ни стекол витрин, ни людей, – одна лишь пустота, нагнетающая ощущение безысходности, слабость и запах торфа, разносящийся по улицам невидимым дымком сгоревших болот. Еще недавно сырая земля под носом ссохлась и перестала источать приятный голове – больше успокаивающий, убаюкивающий, – но не обонянию, запах. Послюнявив пальцы, я стал растирать сухую землю под носом, чувствуя проблески жесткой щетины, изрядно отросшей за последнее время, что в действительности меня немного удивило, так как с утра (а когда же это утро, собственно, было?) кожа моего лица была как протертая спиртом деталь станка – гладкая и сверкающая. Истошным неоном мерцали помпезные буквы, висевшие прямо перед моим носом – а по факту над аркой одноместной двери, петли которой ужасно ворчали, когда дверь открывалась; но услышать этот звук я смог лишь только после того, как сам распахнул дверь и ворвался внутрь миллиметровыми шагами.
Внутри пахло дешевыми духами, алкоголем, по́том и запахом человеческих нечистот. Запахи доносились откуда-то сверху. Чтобы оказаться наверху, необходимо было подняться по тесной крутой лестнице с деревянными бурыми перилами (некоторые цвета я все же мог определять по холодному или теплому оттенкам), под перилами извивались ажурные дорожки металлических полос, кое-где превращавшиеся в незатейливые цветочные бутоны. На втором этаже было куда уютнее. Вокруг мерцали приглушенным светом лампы, абажуры которых свисали со стен; обои на стенах напоминали богато, но безвкусно украшенную будку для пса, богатые владельцы которого не пожалели денег на обустройство маленькой каморки для своего животного; темных цветов ковер, который лишь на миллиметр оголял наготу пола, закрывая собой почти все пространства огромных комнат; по углам стояли столики с вазами, в которых стояли увядшие цветы.
Ко мне тут же подбежала толстая старая женщина килограмм в сто двадцать, чья старость не была так очевидна: не было ни складок, ни морщин, глаза ясные, но немного потухшие; но все же по тому, как она охватывала ртом сигаретный мундштук, по тому, как от нее разило перегаром, я понял, что ей не меньше сорока пяти; и ее голос, хрипловатый, но тихий и уверенный начал меня раздевать, как только я поднялся на последнюю ступеньку и сделал шаг навстречу задымленной открытой комнате:
– Здравствуйте мистер, желаете девочку? – И не выслушав моего согласия, она уже кричала в противоположную от меня сторону: – а ну быстро подошли сюда, у нас гость, – а потом, как бы вопрошая, тихо добавила, чтобы услышал ее только я: – что с них взять!
По крику мадам прибежали девочки, разных конституций, объемов и цветов кожи, последнее я отличал только по переливу и отражению света от кожи девушек, так как освещение в комнате было, если не соврать, паршивое. Но было в них что-то особенное, что-то знакомое и странное, что-то такое из ряда вон выходящее, но чего я сразу-то и не смог заметить, окинув беглым взглядом их молодые разгоряченные тела, которые в пол-оборота были повернуты ко мне. У них не было голов, но только ровный срез по шее, отделявший их человеческое естество от пустоты, в которой теперь не присутствовало ровным счетом ничего, кроме прозрачного воздуха с мелкой взвесью и запахом пота; как будто старуха специально так сделала, чтобы женщины не надоели своим трепом посетителям, будто считала, что так от них больше пользы и красоты, нежели с настоящими головами, но я знал, что это не дело рук сто двадцатикилограммовой мадам, а дело рук моего мозга, если можно так интерпретировать эти три несовместимых между собой слова.
Кивок головы был направлен в сторону одной из стройных девиц, что стояла между темнокожей и светлокожей, по видимому черноволосой, так как если бы у нее присутствовала голова с волосами, то их цвет был бы именно черным. Она вышла вперед, сделала несколько оборотов в каждую из сторон, считая лучшим показать мне себя со всех ракурсов: свои груди, ягодицы, длинные ноги на туфлях с низким каблуком, шею и другие части женского тела, которые сейчас меня интересовали, надо сказать, не так сильно, как всегда. Но женщина всегда остается женщиной, не смотря даже на красоту тела, красоту лица и глаз, чего в данный момент, говоря со всей серьезностью, и апломбом в голосе, не было. После того как она закружилась в танце одного актера, будто исполняя менуэт женщины, не получившей того, о чем она всегда мечтала в жизни: славы, денег, красивых мужчин, но вместо этого простые разочарования, полностью поглотившие ее с головой, теперь же главенствующие ею, доминирующие над ею самой и ее естеством, которого она сама в душе боялась, – она грациозно поманила меня своей рукой.
Мы уединились в небольшой комнатке, где стоял тяжелый запах табачного дыма, и, если принюхаться, то можно было понять, что он уже живет своей жизнью, что он выкуривает сам себя, ежесекундно поддерживая однородную консистенцию в чахлой комнате спеси и разврата. Обои в комнате были чертовски красивы, но при детальном рассмотрении, когда дым за малым расстоянием от стены немного подтаивал, не находя места для продолжения своего плавного распространения вдаль, они становились кривыми, жухлыми, местами изодранными; шов явно расходился, обнажая узкие линии голых стен и черной плесени. В некоторых местах мне виделись следы от ногтей, которыми видимо, мужчины в моменты то ли страха, то ли апогея сцарапывали обои со стен. Хотя не исключено, что это был только мираж, сокрытый под толщей густого крепкого сожжённого табака, лелеющего мои глаза сладкой дымкой. Марево добавляло определенную атмосферу этому месту, в котором угасало не только желание женщины, но и любое другое желание.
Мягким голосом, где-то с другой стороны задымленной комнаты, ко мне обратилась сорокалетняя старуха:
– Может быть мистер желает что-нибудь выпить? – Эти слова разнеслись эхом по комнате, будто отталкиваясь не только от четырех стен, но и от дыма. Я тонул в этом дыме, словно в воде.
– Да, – ответил неведомо куда мой голос, не дожидаясь меня, – бокал джина и два бокала вермута. – Потом, призадумавшись, зная, что старуха ждет от меня чего-то еще, я добавил, не зная кому, то ли проститутке, то ли все той же мадам-сутенерше: – Дама желает что-нибудь?
Я знал, что дама не сможет мне ответить за неимением рта, но за нее мне ответил все тот же голос со стороны дверного проема, которого я никак не мог найти, идя вдоль прямых стен с оторванными в некоторых местах обоями.
– Она не пьет.
Я почувствовал ее улыбку на коже своих щек, которые вмиг очерствели под наплывом табачного дыма.
– Ваш же заказ я немедля исполню.
Дверь захлопнулась, покачнув безмолвную стойкость дыма, который теперь качался, как волны, на уровне моего подбородка. Эту дверь я так и не смог найти, но, пройдя вдоль стен, кажется, несколько раз, я подошел к кровати с проституткой, которая лежала на пунцовом покрывале с сухими лепестками роз. Она лежала, немного согнув ногу, и курила, подставляя сигарету в мундштуке к тому месту, где должна была быть ее голова; уголек на секунду вспыхивал красной краской, а потом угасал. В воздухе снова клубился дым, будто пропавшая голова была везде и выпускала дым там, где ей захочется. Мое желание лечь пересилило исступление: я совершенно не понимал того, что происходило вокруг. Я лег и закурил, сравнивая курение проститутки с тем, как курю я. Я не мог до конца понять, видит ли они меня, понимает ли то, что рядом с ней сейчас лежит мужчина, осознает ли это.
Неведомо откуда появился фантом женщины с подносом, на котором стояло три бокала с позолоченной окантовкой: один с джином и два других с вермутом.
– Наслаждайтесь, – с улыбкой произнесла она, после чего растворилась, исчезнув так же быстро, как и появилась.
Но наслаждаться-то особо было нечем: непролазный дым постепенно забирал силы. Такое чувство впервые овладело мной. Я вообще не мог вспомнить, испытывал ли я подобную этой симфонию тишины раньше. Как будто бы утренний, предрассветный, – туман, в полумраке ожидавший первые солнечные лучи, позволял видеть вокруг, как это всегда бывает, только малую часть пространства, чаще всего ту, в которой стоишь ты сам и некоторую территорию вокруг. Сейчас я видел небольшую часть вокруг себя: пунцовые простыни, безголовую проститутку, свечи, бокалы, и больше ничего.
Я начал разговаривать с проституткой, которая курила уже третью сигарету:
– Как странно, но я никогда не видел окраин этого города, – начал я так, будто продолжал незаконченную тему, но теперь возвращаясь к ней вновь и вновь с апломбом и полным отсутствием страха и неуверенности в голосе. – Я никак не могу найти выход из этого города, точно так же я не могу найти выход из этой комнаты. Мне кажется, что я чего-то не сделал… а, может быть, сделал слишком много? и, когда я сделаю что-то нужное, дверь сама найдется. Нам непременно нужно заняться любовью, чтобы у меня получилось выбраться отсюда – это я знаю, но все потом, потом, сейчас я хочу просто поговорить…
Я отвлекся, и залпом допил противный вермут, который теперь совершенно потерял вкус. Синэстезия давала о себе знать неровной тряской рук, которые начали плясать ровно после того, как я осушил бокал. Поступало осознание того, что алкоголь начинает медленно меня расщеплять, разрывая на сегменты единство моего тела, а потом, вдоволь насладившись сладким послевкусием своей власти, алкоголь начинал собирать меня конструктором опьяняющих феноменов, пронизывая каждую часть тела стальными тонкими прутами, связывая все части тела воедино вновь. От старых попоек уже были тысячи заживших ран, но это ничего не меняло, нельзя было привыкнуть к нестерпимой боли алкогольной зависимости, когда твое тело не только не сохраняется в первозданном виде, но разлагается заживо внутри себя. Джин и второй бокал вермута пока я пока трогать не стал.
– Я бродил по пустым серым улицам, но так и не смог разглядеть их лица. Эти головы никак не могли преобразоваться во что-то новое, во что-то ценное – ценно-прекрасное.
Я взял бокал с джином, но не стал пить его сразу: я разделил его на три части. Первую я отпил в ту же секунду. Джин был разбавлен, но не чем-то паршивым, а обычной водой.
Я продолжил односторонний диалог:
– Я никак не могу понять все то, что происходит вокруг: почему же все-таки этот город так ограничен в пространстве, но так многолик, так многофункционален, подобен себе и не себе в одно и то же время? Я не вижу того, что с ним происходит, но он всегда разный, его сточные воды, трубы, свисающие ржавчиной с крыш домов всегда текли и будут течь в одном направлении – правда это или нет? – я не знаю, не имею ни малейшего понятия об организации данных физических величин, но в моем мире все по-другому, все не так, как должно быть… а как должно быть? как нужно, чтобы этот мир был сформирован? не мне ли решать это, обуславливая те или иные факторы желанием своего мозга, его моментальными вычислительными процессами, следующими за длинными раздумьями? Я здесь всемогущ и вездесущ – ты должна это знать, – сентенциозно говорил я проститутке, которая даже, возможно, не понимала меня; ее уши плавали где-то в совершенно другой реальности, там, где у головы не было тела, а, может быть, все-таки было; но я надеялся, что она может слушать меня частичками кожи.








