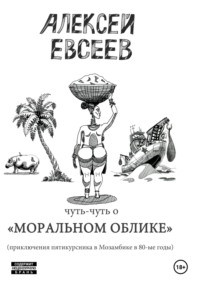Полная версия
Жалкая жизнь журналиста Журова
Только через несколько недель Журов отважился спросить, почему он. Кароль хотела отшутиться, но передумала. Как-то незаметно он перестал быть для нее просто парт-нером.
– Ты в моем вкусе. И очень привлекательный! – Он поморщился – не то! – Я не шучу. Ну хорошо. Видишь ли, я здесь и года не прожила, а ко мне уже несколько раз, всегда через посредников, обращались с весьма странной, на мой взгляд, просьбой. Выйти замуж, чтобы якобы спасти кого-то. Что значит спасти? Не понимаю… То непризнанного поэта, то великого математика, то физика, которому не дают работать… Один раз честно, без всяких сказок, предложили крупную сумму… Замучили просто! И у меня появилось предубеждение – любого мужчину, оказывающего мне знаки внимания, я стала подозревать в корысти… – она подошла к Журову, прижалась. – А тебя – нет. Причем с первой минуты. Ты смотрел на меня такими глазами… И продолжаешь смотреть. Я чувствую себя желанной! Теперь ты доволен?
Очаровать француженку у Вити Смирнова не получалось – к ресторанам она была равнодушна, его симпатичная жульническая героика вообще не производила на нее впечатления, более того – она решительно и категорически ее осуждала! При случае подаренный букет роз вызвал ее изумление, приняв цветы, она тут же на французском о чем-то встревоженно спросила Бориса. Пока тот со смешком давал ей объяснения, с подозрением смотрела на Витю. В отношении к себе Кароль он улавливал некую логику, типичную, в его понимании, для жителей Запада. Те даже не догадываются, как приходится крутиться нашему брату, чтобы хоть что-то заработать сверх мизерной зарплаты. Сам считая себя жуликом, Витя видел в спекуляциях свое призвание, чего совершенно не стеснялся. Совок вечен, бороться с ним бесполезно. Да и глупо. Если в Европах-Америках он мог бы стать брокером на бирже, скупщиком, посредником и тому подобное, то здесь у него шансов нет, не было и не будет! Даже теоретически! Поэтому он спекулянт, а значит, враг трудового народа!
Роман друга с француженкой вызвал его уважение и зависть, у него такой женщины никогда не будет! Но его не покидало убеждение, что ничего хорошего обоим Журовым это не сулит – журналистку из капстраны комитет должен пасти с особым пристрастием. Однако шли месяцы, а ничего по этой линии не происходило – Журовых не трогали. Выходит, и в Большом доме[5] сплошные раздолбаи! Что за страна, бардак повсюду!
По идее, Кароль могла улететь в отпуск еще в начале лета, но искушение пожить вместе с любимым, пока Марго в отъезде, было столь велико, что она задержалась. Журов проходил летнюю практику, не требующую постоянного присутствия в редакции, что было очень кстати. Однако этот бесспорный плюс напрочь перекрывался чудовищным минусом – его направили не в «Ленинградскую правду», как он рассчитывал, а в «Вечерний Ленинград», да еще в отдел партийной жизни, которым руководил тертый и всего боящийся Яков Самуилович Лифшиц. Журов должен был написать очерк «О настоящем коммунисте», но беда заключалась не в этом. Настоящего коммуниста он сам выбрать не мог! Безоговорочно требовалось писать о конкретном человеке, понятное дело, о рабочем, конечно же, Герое Соцтруда и делегате одного из съездов. Звали его Евгений Александрович Солдатов, и нес он свою трудовую вахту на гремящем на весь Союз Кировском заводе. Делать нечего, Журов принялся названивать герою, после третьей попытки стало ясно, что настоящий коммунист Солдатов никакое интервью давать не собирается. Будь персонаж вымышленным, он как-то бы выкрутился, а тут?! Журов попробовал было броситься Якову Самуиловичу в ноги, но тот как отрезал – писать надо обязательно и только о Солдатове! Журов предположил, что, вероятно, через партийную организацию завода можно как-то обязать героя поделиться с корреспондентом какими-нибудь фактами своих трудовых подвигов. Лифшиц уклончиво ответил, что только в самом крайнем случае, и то он гарантировать ничего не в силах, а пока юноше надо проявить журналистскую настойчивость, хитрость, если хотите.
Набрав в очередной раз номер упрямого рабочего, Журов решил воззвать к человеческому милосердию, типа, пожалейте студента, ведь не зачтут практику! Солдатов оказался абсолютно бессердечным человеком, мычал в ответ, что никак не может. Без вразумительных объяснений почему. Что-то подсказывало Журову, что следующим шагом герой-рабочий будет посылать его на три известные буквы.
– Ну а пива-то вы со мной выпить можете? – в отчаянии прокричал он в трубку.
После непродолжительного молчания свершилось:
– Пива выпить могу.
При этих словах Журов, пожалуй, испытал первую большую радость в своей трудовой жизни.
Договорились на пятницу в пивном баре «Нептун» на улице Трефолева в трех остановках от заводской проходной. Журов приехал на час раньше, по пути заглянув в гастроном напротив бара, где минут десять простоял в задумчивости: что брать – водку или портвейн. Выбрал водку, не пропадет. У входа в бар стояла большая очередь, войти по временному, все-таки уважаемому редакционному удостоверению не удалось. Пришлось сунуть рубль швейцару, трешку – официанту. Тут же нашелся правильный столик. В назначенное время Журов забеспокоился: вдруг настоящий коммунист при виде толпы страждущих на входе плюнет и развернется домой? Нет, надо героя встретить, только как узнать-то его? Журов заметался вдоль очереди, заглядывая каждому в лицо. Ну не орать же: «Кто из вас, мужики, Герой Соцтруда Солдатов?» В это время раздался громкий сигнал трамвая, Журов обернулся. По пути из гастронома напротив, полностью игнорируя движение автомобилей и трамваев, переходил дорогу невысокий аккуратный мужик в пиджаке и с дипломатом. Мужик уверенно смотрел на Журова и шел прямо к нему:
– Ты Журов?
– Евгений Александрович?
– Он самый. Ну здравствуй! Будем стоять или…
– Нет-нет, что вы! Столик я заранее занял! – и Журов повел его мимо невозмутимого швейцара в зал.
Официант поставил перед ними две металлические тарелки с копченой рыбой и солеными сушками и по кружке пива. Солдатов сразу отхлебнул и заметил с каким-то удовлетворением:
– Разбавленное!
– Не без этого! – заискивающе хохотнул Журов, – Как вы меня узнали, если не секрет?
– Тут и думать нечего – ты один такой нарядный фраер суетился, а люди стоят спокойно, ждут.
Журов достал блокнот. Солдатов сразу насупился:
– Слышь, парень, я ж сказал тебе, что интервью давать не буду.
Журов слегка растерялся, придется запоминать. Ради зачета по практике он был готов раскошелиться, поэтому на всякий случай вкрадчиво сообщил:
– Должен сообщить вам, Евгений Александрович… только поймите меня правильно… Этот наш сабантуйчик – подотчетное мероприятие, за него платит редакция! Так что чувствуйте себя на предмет расходов свободно.
Солдатов ничего не ответил, понять что-либо по его лицу было невозможно. Когда подошел официант, он хмуро бросил:
– Еще по паре! – Журов одобрительно затряс головой. Забрезжила хоть какая-то перспектива – вдруг спьяну у работяги язык развяжется.
Принесли пиво, и Солдатов изрядно, большими глотками ополовинил кружку.
– Вообще моча, – мрачно изрек он и после небольшой паузы продолжил: – Я вот недавно в ГДР ездил. С делегацией от Комитета защиты мира. Так там рабочий по дороге домой на каждом шагу может зайти в пивную… Даже в ресторан! Пиво там что надо… вообще какое хочешь… и нажираться до поросячьего визга человеку не требуется. Все такие чистенькие. Везде порядок. Опять же закусить можно. Вкусно.
Оба посмотрели на свои тарелки с полупротухшей рыбой и неподъемными сушками – хрен раскусишь!
– Мы в прошлую получку с ребятами из бригады пошли выпить. За насыпь, что напротив улицы Корнеева, знаешь? – Журов жадно ловил каждое слово… – Вроде место безлюдное. С одной стороны железная дорога, с другой – бетонный забор какой-то конторы… Высоченный. Нас не видно, никому не мешаем. А оказались в западне! Менты облаву устроили с двух сторон, бежать некуда… только если через насыпь. Но они, суки, и там принимали. Короче, всех повязали. А у меня из документов только удостоверение Героя Соцтруда. Мужиков в обезьянник, а меня домой отпустили. Вежливо так, с уважением. На всех телегу накатали, а на меня – хрен с маслом…
После этих слов, произнесенных с неподдельной обидой – менты на него телегу не накатали! – Солдатов замолчал, и вытянуть из него что-то полезное для будущего очерка не получалось, как Журов ни изголялся.
«Неужели придется высасывать материал из пальца? – У-у-у, коммунисты гребаные… И чего это Лифшиц так с ним уперся? Другого, что ли, в пятимиллионном городе не сыскать? Да пошел Лифшиц в жопу! Вместе со своим Солдатовым! Что-нибудь да напишу. Сколько можно заискивать перед этим долдоном?!»
– Может, пожрем и заершим? Что думаешь? – нагло перейдя на «ты», спросил он, показывая купленную в гастрономе водку.
Рабочий с интересом посмотрел на студента, приоткрыл дипломат и показал точно такую же, судя по всему, купленную в том же гастрономе напротив бутылку.
– Я думал, ты хлюпик. Ну что ж, дело хорошее. Валяй!
И понеслась. Как говорится в народе – до зеленых соплей.
Всего через несколько лет Евгений Солдатов дал рекомендацию Борису Журову для вступления в ряды КПСС.
Уже который день Журов страдал у печатной машинки. Иногда, очнувшись от раздумий, он шустро стучал двумя пальцами, громко передвигая каретку. Перечитав написанное, он тут же яростно выдергивал лист и остервенело рвал его на мелкие кусочки. Кароль впервые видела, как он пишет. Объяснение тому было наипростейшим – стоило им оказаться у него дома, как они тут же прыгали в постель. Тратить время на что-то иное казалось кощунством. И вот наконец в кои-то веки они могут днями засыпать и просыпаться в объятиях друг друга, вместе ходить в магазин за продуктами, готовить… А вместо этой ожидаемой идиллии какая-то истерика. На пустом месте!
– Кароль, merde, merde! Я не знаю, что делать! О чем писать? О том, что настоящий коммунист – такой же пьяница, как и все? Да, мужик он хороший, должен признать. Но ведь и его в милицию замели! Он вообще ничего о себе не рассказал, я даже не знаю, у какого станка он стоит…
Кароль с нежностью смотрела на него. Бедный мальчик, как он чист еще! Не может вывернуться из не самого сложного редакционного задания! Чуть-чуть цинизма ему не помешало бы. Надо помочь ему.
– А что, если посмотреть на поднятый твоим рабочим вопрос с другой стороны?
– Какой вопрос он поднял, Кароль? О чем ты? Что рабочему человеку в получку бухнуть негде?!
– Именно! Давай поразмышляем о культуре и традициях приема алкоголя не только в России, но и в других странах. Давай откроем дискуссию о пользе кафе, бистро, ресторанчиков и таверн!
– Кароль, милая моя, какие бистро, какие таверны! Этого же никогда в жизни не напечатают! Отдел партийной жизни же!
– И замечательно! В первую очередь коммунисты должны подавать пример окружающим. Ну вот в Париже на заводах «Ситроен» или «Пежо» в столовых продают вино и пиво. И что? Поверь, французы пьют очень много! Это же не является какой-либо социальной или экономической угрозой. Не представляет опасности для общества! Если только сразу не садиться за руль… Надо перевести тему к вопросу необходимости подъема общего культурного уровня населения! И призыв этот должен прозвучать из уст рабочего, члена партии. Как ты говоришь, еще он кто? Герой Социалистического Труда? Какая прелесть!
– Кароль, то Париж, а то Кировский завод! Представить себе не могу в этой стране рабочего или колхозника, приезжающего на завод или на поле, ха-ха, на личном автомобиле. Потому что автомобиль здесь – роскошь. Чтобы купить машину в СССР, надо несколько лет стоять в очереди!
Спорить ей не хотелось, не слушая возражений, она вытащила его из-за стола и приложила совсем немного усилий, чтобы начисто отвлечь от журналистского задания. Все-таки еще совсем мальчик!
Довольный и опустошенный Журов уснул, она выскользнула из-под одеяла. Сделала чуть тише магнитофон – Серж Генсбур напевал о Господе, курящем гаванские сигары…
Первой мыслью было сесть за машинку, но так она его разбудит. Вытащив из пачки несколько листов бумаги, она принялась быстро, почти без исправлений и зачеркиваний, строчить по-французски. Она набросает лишь тезисы, а ему останется перевести, ну и дополнить, разумеется.
– Михаил Николаевич, Журов из Москвы на проводе. Соединять?
– Обязательно!
– Миша, здравствуй, дорогой! Как жив?
– Твоими молитвами, Толя. Как ты там, в столице на передовой? Чуть ли не каждый вечер смотрим с Машей тебя по телевизору. Пиджаки у тебя – с ума сойти можно! Как был пижоном, так им и остался! Выглядишь цветущим!
– Спасибо, старик, пока в обойме. Наверху, похоже, мной довольны. Но ты же знаешь, как все переменчиво. Как там мой оболтус?
– Знаешь, Толя, вопреки твоим ожиданиям он оказался молодцом. Будет журналистом! Я его к Лифшицу в отдел партийной жизни засунул. Яша дал ему трудно-подъемное задание – подготовить очерк об одном рабочем – Герое Соцтруда и все остальное по списку, – из которого слова клещами не вытащить! Лично с ним знаком, вместе в ГДР с делегацией Комитета защиты мира ездили. Представь себе, парень твой написал очень толковый и смелый материал! Печатать его по понятным причинам нельзя, но талант у него есть! Когда будешь-то в городе на Неве?
– Ну, уважил ты меня, Миша! Как вырвусь, так сразу. Дела, жена опять же молодая. Не забудь поклониться от меня Маше. Надеюсь, она в добром здравии. Целуй детей! Ну, бывай!
– Бывай, Толя, звони, если что. Всегда подтолкнем твоего парня, поможем. Обнимаю!
Журов с удовольствием откинулся на спинку кресла. Борька-то, оказывается, на что-то способен! Выходит, все-таки течет в его жилах журовская кровь! Он достал коньяк, налил себе до краев в стоявшую рядом кофейную чашку, опрокинул, крякнул и с удовольствием закурил.
6Жизнь Бориса Журова складывалась отнюдь не плохо. Без блеска, на «хорошо» он переходил с курса на курс. Узбеки периодически делали увесистые заказы, Идрис с Хусейном не подводили. Главное же, упоительные и нежные отношения с Кароль продолжались, и каких-либо угроз им не поступало! Их частые прогулки по городу почему-то не привлекали внимание наружки, иначе, как полагал Журов, последствия не заставили бы себя ждать. Ладно наружка, но почему на многолюдных посиделках в мастерской у Миши их никто не закладывал? Ведь должны же были туда просачиваться всякого рода осведомители. А у Миши все кому не лень знали, что Боб – сын того самого Журова, а Кароль – парижанка! В общем, сплошные чудеса!
В университете Журов по-прежнему презирал и встречал в штыки буквально все творческие задания из-за ничтожности предлагаемой тематики. Его не покидала уверенность, что будь он свободен в выборе, то наверняка написал бы если не гениально, то неординарно. С зашкаливающим снобизмом он игнорировал обучение ремеслу и все чаще прибегал к помощи Кароль, воспринимая ее как студенческую хитрость, как шпору на экзамене. Лишь бы получить зачет у очередного препода-неудачника.
– Милый, – как-то со смехом обратилась к нему Кароль, – наша совместная работа тебе ничего не напоминает? Что ты таращишься? Я прямо как Мадлен Форестье!
Мопассана Журов любил.
– Но я-то не Жорж Дюруа!
– Чем же ты отличаешься?
– Как чем? Во-первых, я не авантюрист… и люблю тебя бескорыстно! Во-вторых, это всего лишь учебные задания. А потом, сколько всего я добавляю от себя, пока перевожу. Чего ты улыбаешься, Кароль? Я мог бы легко сам! Честно! Хочешь, в следующий раз? Просто у тебя так быстро все выходит, раз-два и готово… ты ж руку давно набила… а у меня все впереди. А так нам остается больше времени для наших нежностей. Иди ко мне!
Его дни омрачали лишь две проблемы, которые в раздумьях он нередко увязывал в одну: грядущее распределение и скорый отъезд Кароль. Советскую журналистику презирать-то он презирал, но работать в какой-нибудь периферийной газетенке не собирался, ему как минимум подавай «Ленинградскую правду». А кто ж его туда возьмет? А если жениться на Кароль и свалить? Только что в этом Париже делать? Оба вопроса требовали решения, и если на распределение Журов повлиять был не в силах, то вот жениться или нет, мог решить только он!
– Пойми, Вить, родители у нее чокнутые бедные коммунисты, помощи от них не будет… Положим, у нее есть работа… Но квартиры-то нет! И сбережений тоже. Мне посуду мыть? Курьером бегать?! Не висеть же у нее на шее!
– Париж – это тебе не Слынчев Бряг! Другие возможности, Франция все-таки! – Журов поморщился – ситуация назревала один в один… Он полагал, что Витя, как друг, не имеет права упоминать при нем Болгарию и Иванку. Он вычеркнул из памяти свою первую любовь – при встрече на факультете в груди больше ничего не екало… Да, ему пришлось поступить с Иванкой неприглядно! Но исключительно из-за отца! И не надо напоминать ему об этом! Витя же как ни в чем не бывало продолжал выдвигать аргументы «за» с не меньшей убедительностью, чем несколько лет назад – «против»:
– А Франция – передовая капиталистическая страна! Европа! Тебе всего-то двадцать два! Все впереди! Курьером тебе бегать не придется, увидишь. Устроишься переводчиком. Свободно же шпаришь! До хрена же всяких там культурных и научных обменов. Подучишься чему-нибудь, вольешься в какое-нибудь дело… Наладим канал обмена… через дипломатов, например, или журналистов… Ты там, я здесь. Может, какую иконку тебе передам, пару килограммов икры, а ты мне что-нибудь оттуда! Не пропадешь! Боря, вали отсюда! Люди огромные деньги дают, чтобы жениться на иностранке. Заметь, на любой! Хоть на уродине, хоть на старухе! Лишь бы уехать… А у тебя любовь! Только ради Кароль – какая женщина! – уже стоит бросить все к чертовой матери! Все тебе дается на шару! Прушник! – последние слова Витя произнес с раздражением: обращался-то он к Журову, но адресовал их себе – несмотря на обаяние, щедрость, подвешенный язык и многие другие неоспоримые достоинства, в любви ему не везло. Он бы и с толстушкой, пусть даже старше его, пусть не красавицей… А с такой, как Кароль… на край света, на Колыму… да хоть куда. Он представил себя на месте Журова…
– Торговать иконами – грех!
Витя очнулся от грез и выпучил глаза:
– С каких это пор ты стал верующим?
Журов отвернулся и категорично заявил куда-то в – сторону:
– Я не верующий, но Бог точно есть. Торговать иконами мы не будем.
– Не будем так не будем, – легко согласился Витя, – но что-нибудь-то нароем!
Разговор повис. Журов не осмеливался поделиться своим главным страхом. Что-то подсказывало ему, что Кароль охотно выйдет за него замуж, при этом как в первую встречу, так и сейчас не понимал, что она в нем нашла. Их любовь воспринималась им как стечение обстоятельств. Чувства Кароль, подозревал он, сильны и искренни только здесь, в Ленинграде. Необходимость встречаться тайно лишь придает им остроту. Стоит же ему оказаться во Франции, как сотни красивых, уверенных в себе мужчин с квартирами, машинами, яхтами, виллами и прочими богатствами, немедленно оттеснят его на второй… даже не на второй, а на самый задний план. И что тогда? Он станет ей обузой!
В общем, Журов топтался на распутье. А тут еще рожу в общаге начистили на пустом месте… От унижения, собственной слабости и обиды на всех и на вся затащил в постель эту влюбленную в него девчушку… Зачем? Обязательно надо было кому-то поплакаться? Что Ирка в него влюбилась, он с ленивым самодовольством почувствовал сразу, еще когда без всякой задней мысли, от скуки, пригласил ее выпить шампанского. В тот раз решил голову ей не морочить, а через месяц увидел на дискотеке, и что-то словно щелкнуло внутри. На следующий день, когда повез домой, вдруг раскаялся, оставил бедную у подъезда, струхнул подняться к ней. Подумал тогда, что только объяснений с мамашей ему не хватало. Не делать же предложение руки и сердца. Как-то бестолково все вышло… и осадочек остался. Причем с гнильцой.
На следующий день после Ирки он очень некстати не удосужился убраться в квартире, выпустил это обстоятельство из виду и привел Кароль. А в прихожей коробки с аппаратурой – и как теперь уверять, что он не при делах? На кухне Витин букет – и что он вечно лезет со своими цветами! И на тетку не свалишь… Недопитое шампанское, грязные бокалы… постель как-то не так смята. Предвосхищая возможные вопросы, сразу сказал, что заходил Витя, в кои-то веки с дамой, которая, потеряв голову от его остроумия, забыла букет. Да и аппаратура Витина, позже заберет! При этом глаз поднять на Кароль не мог. Фингал этот на полфизиономии…
Неуклюжая ложь Журова причиняла Кароль страдание. Но не его вранье сейчас главное. Отъезд домой неумолимо приближается, а он все не подступает к волнующей ее теме. Неужели придется, отбросив гордость, самой спрашивать, собирается ли он на ней жениться? Или ни о чем не спрашивать? Вернуться во Францию, не расставив точки над i?
– Пожалуй, я поеду домой, – рассеянно глядя широко открытыми глазами на смятую постель, упавшим голосом произнесла она. – Проводишь меня до метро?
Журов, как ей показалось, выдохнул с облегчением и без лишних расспросов загремел засовами.
Сразу после защиты диплома в Ленинград прилетел Журов-старший и, как давно завелось, игнорируя гостеприимство Марго, остановился в «Европейской», куда и пригласил сына поужинать. Заодно и поболтать о том о сем.
Пили водку, закусывали черной икрой и груздями. Буквально все посетители, кроме иностранцев, разумеется, с любопытством, прямо или украдкой, рассматривали известного телеведущего. Анатолий Александрович привык к вниманию и по давно выработанной привычке на людях не расслаблялся – шибко на стуле не разваливался, узел галстука не распускал, ел правильно и аккуратно. В то время как его сын был излишне вальяжен и чуть ли не лежал. Когда что-то можно было взять руками, брал, игнорируя нож и вилку; единственное, чего не делал, так это не ел водку стаканами. Напиваться сегодня в планы не входило. Дураку ясно, зачем примчался отец. Журов, внимая Витиным уговорам, решил-таки родителя выслушать. Хотя язык чесался с порога ошарашить того известием, что он женится на француженке и уезжает в Париж. Пора и ему мир посмотреть. Интересно, что ответил бы на это Журов-старший, ведь сейчас-то «товарищи оттуда» его не предупредили, профукали. Куда смотрели два с половиной года, раздолбаи!?
Журов-старший замечаний сыну не делал, оставался безучастным к нарочитой демонстрации плохих манер, только посмеивался, ел и пил с отменным удовольствием, был легок, остроумен и во всех отношениях приятен. Не придраться! Лишь когда принесли кофе, он приступил ко второй, главной части намеченного плана:
– Должен сказать тебе, сын, мне присылали некоторые твои работы… и я дал кое-что посмотреть, – тут он перечислил ряд имен и фамилий главных редакторов московских и ленинградских газет, известных на всю страну журналистов и даже упомянул одного писателя-классика. – Не только я, но и все они уверены, что у тебя серьезные способности, – слова отца лились бальзамом на душу. Вот оно! Он и сам подозревал в себе талант, верил.
– Признаюсь, для меня это полная неожиданность. Очень приятная. Не ждал от тебя, думал, что судьба наградила меня сыном-разгильдяем. Так вот. Уж коли ты прописан в Ленинграде и, как я предполагаю, планируешь начинать свою карьеру именно здесь… мне это приятно, все-таки родной для меня город… – Журов хотел на этом месте вставить с максимально возможной желчью, что родной отец вряд ли собирается прописывать сына обратно в Москву, в квартиру с молодой женой. Так что их планы и интересы по части Ленинграда совпадают, но, удивительное дело, от ехидства воздержался.
– Мы тут с друзьями посовещались и подумали, что тебе есть смысл начать работать не в городской газете, а в многотиражке. В «Кировце», – на этом известии Журов очнулся от сладких грез. Что за бред! Какая, на фиг, многотиражка! Это же орган Кировского завода – кроме танков и тракторов, о чем там писать?! Ишь чего удумал – заасфальтировать единственного сына в вонючую многотиражку. Он открыл уже было рот, чтобы сообщить обезумевшему отцу о своей женитьбе, но тот не позволил себя перебить и продолжил своим поставленным голосом:
– Тебя распределят туда литсотрудником. Если не будешь валять дурака, через год ты ответственный секретарь газеты… там товарищу давно пора на пенсию. На заводе сильная партийная организация, причем на правах райкома, а это значит, что ты без всяких проволочек и лишних церемоний сможешь вступить в партию. А там недалеко до корпункта где-нибудь в Европе. Тут я тебе посодействую… Главное, не делать глупостей!
«Корпункт в Европе, – завертелось в мозгу Журова. – С французским. А это у нас помимо Франции только Бельгия и Швейцария. Заманчиво, очень заманчиво. Неужели Витя прав и на самом деле стоило папашу выслушать? Тут надо хорошенько подумать… прикинуть, так сказать, прибор к носу».