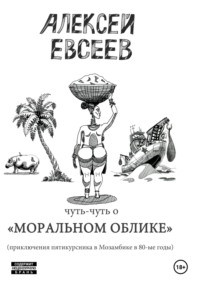Полная версия
Жалкая жизнь журналиста Журова

Алексей Евсеев
Жалкая жизнь журналиста Журова
И горько стало мне,Что жизнь моя прошла,Что ради замысла я потрудился мало…Арсений Тарковский. «Дума». 1946Я тебя люблю… Я тебя тоже нет.
Серж Генсбур
© Евсеев А., текст, 2024
© «Геликон Плюс», оформление, 2024
Часть l
1Сердце вдруг остановилось, Журов мгновенно проснулся и попытался сделать вдох. Не получилось. «Все! Конец!» – ужаснулся он и заорал во весь голос и этим криком словно заново запустил заглохнувший механизм. Тяжело задышав, он прижал трясущуюся руку к сердцу, этим движением словно поддерживая его и одновременно защищая от какой-то опасности извне. Другой рукой, ладонью от себя, прикрыл глаза, закрываясь от потерявших привычные очертания фотографий и телевизора, висящих на стене спальни. Журов окончательно проснулся. «Так я и умру, – решил он. – От внезапной остановки сердца… Быстро и во сне. Такой стремительный прыжок в никуда. Ложишься вечером спать и…» – поймав себя на этой мысли, он испуганно перекрестился.
Запахнувшись в халат, Журов перешел в гостиную. Включил телевизор – да кто же это смотрит-то? – выключил. На журнальном столике третий день стояла недопитая бутылка красного вина. Испортилось? Кто мешал убрать в холодильник… Он осторожно глотнул из горлышка. Надо же, все в порядке. Журов усмехнулся – видимо, судьба вина беспокоила его больше, чем сердце. И что? Хуже ведь определенно не стало. А раз так… Он достал бокал и, смакуя каждый глоток, допил бутылку. Может, померещилось с сердцем-то?
Переместившись на диван, он с неприязнью уставился на разросшийся до гигантских размеров цветок, название которого, как ни старался, запомнить не мог – замиокулькас! На самом-то деле растение ему нравилось, и даже очень, но занимало оно весь угол, который в мечтах Журов отводил под книжные полки, обязательно открытые и под самый потолок. Мечтам этим, как он понимал, сбыться было не суждено. Варька категорически выступала против, квартиру убирала она, а книги, как известно, пыль притягивают катастрофически. Журов перевел взгляд на картины, без которых гостиная – продукт модного московского дизайнера и Варькина тихая гордость – потеряла бы свой изысканный вид. Впрочем, при всей легкости и изяществе гостиной висевшие в ней картины отличались некой депрессивностью, постоянно питающей в душе Журова неугасающий огонь ненависти к живописи вообще. «Варвара, душа моя! Ну почему или серая зима, или мрачные натюрморты! Где яркие краски, светлое небо, море, живые цветы? Давай снимем всю эту мазню к чертовой матери и развесим фотографии, где мы счастливы и смеемся! Весеннюю Барселону, Флоренцию или твой любимый Санторини!» – в той или иной интерпретации с какой-то периодичностью начинал метать икру Журов. За его страстными призывами скрывалась заурядная ревность. Варька, как ему казалось, чрезмерно культивировала присутствие бывшего мужа – автора всех работ. В кругу знакомых он почему-то считался талантливым, однако его творения продавались слабо ввиду низкого культурного уровня населения и отсутствия вкуса у его платежеспособной части.
Журов вздохнул. О том, чтобы лечь в постель, и помышлять нечего. Вот уже много лет, единожды проснувшись среди ночи, он не засыпал до самого утра. Чего только Журов не перепробовал – пил теплое молоко с медом, подолгу стоял под горячим душем, смешивал коктейль из валерьянки, пиона и корвалола, – все впустую. Умные люди советовали ему вообще по жизни перейти на снотворное – полпланеты сидит на лекарствах и принимает таблетки горстями! – но у Журова были свои резоны. Во-первых, он панически боялся привыкания, в результате которого лекарство вдруг или постепенно перестанет на него действовать – что тогда, какое средство останется для крайнего случая?! Во-вторых, от любого снотворного через неделю-другую слюна исчезала напрочь, причем настолько, что он не мог произнести и двух слов, не прополоскав пересохший рот водой, которую приходилось постоянно таскать с собой. Такое не комильфо на людях Журов себе позволить не мог.
С сожалением поставив пустую бутылку на пол, он открыл ноутбук, зашел в Фейсбук. Ничего примечательного. Привычные грязь, истерика и нетерпимость… По какому, любопытно, праву, еще недавно, казалось бы, вменяемые люди вдруг принялись разоблачать и осуждать все и всех на свете? Иначе как всеобщим помутнением эту оголтелую непримиримость и не назвать.
Шел третий час ночи. В сети была Ирка Лукьянова, ныне по норвежскому мужу Бьорген. Журов перешел на ее страницу, что делал уже неоднократно, и, словно в первый раз, с сожалением принялся рассматривать фотографии этой далеко уже не молодой женщины, как-то по-русски уставшей и рано сникшей вопреки благополучию и достатку, уже более двух десятков лет окружавшим ее в Норвегии.
– Привет! Вот не сплю, опять бессонница.
– Пьешь?
– Какое там! Так, иногда красное вино в умеренных количествах. Как ты?
– Устала от работы. Дома воюю с мужем и с дочерью. Всё воспитывают меня. Муж постоянно хочет секса. А я хочу, чтобы меня оставили в покое!
– Дочь-то что?
– Она всегда на стороне отца.
– Это ты про секс? Ха-ха!
– Мне не до шуток. Хочу танцевать с тобой и целоваться! Но никак.
– Я больше не танцую.
– Что так?
– Стал старым и скучным.
– В зеркало на себя смотришь? Если ты выглядишь как на фото с этой твоей Варварой, то не гневи Бога!
– Я живот втягиваю. А так толстый.
– Врешь, как всегда. Я тебя тогда возненавидела. А до этого любила! Страстно.
– Не знаю, что и ответить. Пойду попробую поспать. Целую!
– Целую, любовь моя несостоявшаяся.
Ирка Лукьянова, студентка второго курса скандинав-ского отделения, сидела в читалке филфака, обложившись учебниками, тщетно пытаясь зацепиться за мысль или фразу, которые позволили бы наконец начать эту чертову курсовую. А внутренний голос настойчиво нашептывал, что правильнее будет на нее плюнуть, махнуть кофе в буфете у Тамары и прошвырнуться по Невскому. А еще лучше с кем-нибудь из девчонок завалиться в «Щель» «Астории» и выпить шампанского. Ну а там кто знает… Ирка потянулась к модному пакету с ковбоем Мальборо (три рубля у спекулянтов. Так еще и не достать!), чтобы побросать в него тетради, как вдруг заметила в дверях молодого мужчину, который, похоже, выискивал кого-то в зале. Какая правильная девушка к концу второго курса не знает в лицо всех симпатичных студентов и преподавателей факультета! Этот был незнаком. «Не наш. Залетный», – подумала она и уткнулась в учебник.
– Над чем пыхтим, прелестное дитя? – залетный уселся рядом, от него пахло вином, и смотрел он на Ирку весело и нагло. Почему-то это было приятно.
– Над курсовой.
– Ну-ну, – усмехнулся он, – Курсовая твоя никуда не денется! Пойдем лучше выпьем шампанского… где бы лучше нам это сделать… Предположим, в «Щели» «Астории»! Тебя как звать-то?
Ирка вздрогнула – ну разве не сигнал свыше? Или он прочитал ее мысли?
– Ирина, – и тут же, недолго раздумывая, согласилась: – А давай! Только подожди меня пару минут у «Наркоманки».
– У кого тебя подождать?
– Не у кого, а где! «Наркоманка» – это курительная комната на «Сачкодроме».
– ?
– У нас тут все как-нибудь называется. С давних пор… «Сачкодром» – это лестничная площадка на втором этаже перед 25-й аудиторией, хотя номер аудитории тебе ничего не говорит, – она засмеялась. – Там стоят «Диваны», а еще есть «Новый свет», «Катакомбы». Вот сейчас мы с тобой в «Школе». А тебя как звать-то?
– Борис, можно Боб… или как тебе заблагорассудится – откликнусь на любое имя! Можешь звать меня – Игнатом или Жан-Полем… Ну так жду тебя, как говоришь, у «Наркоманки»?
– Угу.
Как только он вышел, Ирка немедленно достала зеркальце, но его поверхности недоставало, чтобы с достоверностью оценить степень своей сегодняшней неотразимости! Побросав тетради в пакет, она без очереди втиснулась сдать взятые учебники, причем сделала это с такой веселой беспардонностью, что никто не успел толком возбухнуть, схватила свой читательский билет и устремилась к туалету. Там у старого, всего в трещинах зеркала она придирчиво осмотрела себя. Хороша! Джинсы обтягивают длинные – слава родителям! – стройные ноги, ресницы радостно хлопают над большими серыми глазами, брови ухоженные, губы чуть припухлые, их даже не обязательно подкрашивать, нос маленький и правильный, а волосы! Копна абсолютно непослушных каштановых кудряшек – вылитая итальянка! Ирка повернулась к зеркалу боком, потом другим – ну, нет у нее к себе претензий ни в фас, ни в профиль! И побежала к «Наркоманке».
Он стоял на лестничной площадке, слегка опершись о перила, и с ласковым равнодушием рассматривал окружающих. Ирка приостановилась, чтобы приглядеться к нему: чуть выше среднего роста, слегка сутулый, худой, лицо правильное, прямые русые волосы. «Не красавец, но интересный, – резюмировала Ирка, – породистый даже какой-то. Вон как элегантно держит руку в кармане… и этот вельветовый костюм… мятый, правда, но как-то правильно и стильно мятый, очень ему к лицу».
– А теперь давай колись, кого искал в читалке?
– Тебя, – не моргнув глазом, ответил он.
Он нравился. В нем предугадывалась легкость будущего общения, от него так и веяло праздником.
– Так каким ветром тебя занесло в наши края?
– По пути из Главного здания. Из библиотеки. Диплом вот пишу. А какой тут диплом, когда с утра уже с ребятами пару пузырей раздавили… на факультете. Я на журнали-стике, – пояснил он, – Шел я шел, да и решил заглянуть к братьям-филологам…
– Скорее, к сестрам… И тут я тебе на глаза попалась!
– Не так! Я влюбился в тебя! Как только увидел! – с пылом заявил он.
«Вот же трепло», – тепло подумала Ирка.
Они вышли на улицу. На Дворцовом мосту их настиг порыв пронизывающего ветра. Борис слегка приобнял Ирку, прикрывая собой. Хотелось поцеловать его и запустить руку в его развевающиеся волосы.
Никто с точностью не может сказать, откуда появилось название «Щель». То ли потому, что место было маленьким и темным, то ли потому, что располагалось в щели между двумя гостиницами: «Асторией» и «Англетером». Некоторые причисляли это заведение к рюмочным, коих в те времена было в городе предостаточно, но более оно все-таки походило на буфет с прямым входом с улицы. От рюмочной, где в продаже всегда имелась водка с доступной закуской вроде черного хлеба с килькой, «Щель» в «Астории» отличал шикарный ассортимент – армянский коньяк, шампанское, бутерброды с икрой и с рыбой. Слово «щель», судя по всему, грело душу выпивающих ленинградцев, что дало им повод окрестить крошечный закуток рядом со знаменитой пирожковой в «Метрополе» тем же именем. Однако дальше название не пошло, так в городе и осталось всего лишь две «Щели».
Они стояли у узкой стойки вдоль стены, чуть касаясь друг друга плечами. Ирка опьянела сразу после первого бокала и дурачилась, постоянно называя его разными именами. Взгляд ее увлажнился, смеялась она чуть громче и чаще, чем требовала их болтовня. Прежде чем взять очередной бокал, Борис, надо отдать ему должное, спрашивал, не хватит ли. Ирка встряхивала своими роскошными кудряшками, будто невзначай слегка прижималась к нему бедром и, хохоча, отдавала команду: «Наливай!» Он шел за шампанским, на закуску брал конфеты «Кара-Кум».
В такси, закрыв глаза, Ирка прильнула к нему. Голова кружилась, но оторваться от него она была не в силах. Он довез ее до дома, дверь открыла мама. На пороге Ирка зачем-то опять скомандовала: «Наливай» и нетвердой походкой, хохоча, проследовала в ванную. При выходе оттуда она увидела его беседующим с мамой на кухне, помахала на прощанье ручкой: «Чао!» – и прямиком пошла к себе в комнату. «Будет моим», – прошептала она с блаженной улыбкой, проваливаясь в сон.
– Ирка, вставай! Хватит дрыхнуть. Ты же не собираешься целый день в постели валяться? Подъем!
– Мам, я не пойду в университет… сплошные лекции… ничего такого, чего нет в учебниках… – сделала Ирка слабую попытку окончательно не просыпаться и выкроить еще пару часиков.
– И думать не моги! Кому говорю, вставай! – Иркина мама Лариса Дмитриевна подошла к постели и решительно рванула на себя одеяло, потом не менее решительно выдернула подушку из-под кудрявой головы.
– Представляешь, что Маринка с утра удумала! Напялила твои сапоги, пока ты тут прохлаждаешься, и собралась топать в них в школу! Хорошо, я ее в дверях поймала. Сопрут же, говорю, в раздевалке! А главное, рано еще в 8-й класс в финских сапогах-то! А она заявляет, что ты ей разрешила. Врет ведь?
Сон как рукой сняло. Ирка подпрыгнула в постели от негодования на младшую сестру: вот ведь зараза! Глаз да глаз за ней!
– Врет, мамуля, врет! Ничего я ей не разрешала! Сама подумай, как я могу?! Свои сапоги! Ей в школу?!
– И не говори, Ириш. Что с этой оторвой делать… И в кого она такая?
Не переставая возмущаться по поводу провалившейся Маринкиной попытки покрасоваться в сапогах старшей сестры, они переместились на кухню. Ирка хмуро уселась пить чай с лимоном. Какой стыд, надо же было так вчера напиться! Башка раскалывается… Кажется, она приставала к нему. Позорище! Что он о ней подумает? Захочет ли еще раз увидеться? Будь проклято это шампанское!
Лариса Дмитриевна, выдержав необходимую паузу для перехода к главному вопросу утренней повестки, слегка погремела посудой у мойки и устроилась напротив дочери:
– Ты лучше скажи, где ты сына Журова подцепила.
– Какого Журова? – Ирка вытаращилась на мать.
– Того самого, что по Первой программе «Международную панораму» ведет!
– Чего-то я ничего не понимаю…
– Чего ты не понимаешь? Твой Борис вчерашний – сын Анатолия Журова, международного обозревателя, ведущего программы «Время»! Еще пиджаки у него всегда такие красивые… И вообще интересный мужчина. Вот же счастье какой-то женщине!
– А ты откуда знаешь? – недоверчиво спросила Ирка.
– Сам мне рассказал… Когда ты в стельку пьяная пошла дрыхнуть – у тебя совесть-то есть?! Мы еще потолкуем с тобой на эту тему, учти! Мы очень мило с ним посидели за бутылочкой коньячка… Весьма симпатичный юноша! – «Коньячок» резанул Иркин слух, она с трудом переносила из уст матери этот уменьшительно-ласкательный лексикон работников советского общепита с их «шампусиками», «полтинничками» и «соточками» (Лариса Дмитриевна несла непростое и хлопотное бремя заведующей производством центрального ресторана одной из гостиниц «Интуриста»). Делать замечание, как, порой, случалось, Ирка сегодня не стала. Ее интересовали любые подробности.
– А чего это он тебе своим отцом хвастался?
– Да не хвастался он! Я сама у него все потихоньку выпытала! Мы ж не зря тут коньячок попивали, – Ирка поморщилась, но опять сдержалась. – Живет он, доча, у своей тетки. Та – профессор и переводчица с болгарского… А что, есть чего переводить? – Ирка пожала плечами. – Потому что не захотел оставаться с отцом, когда тот после смерти матери, недолго горюя, женился на молодухе… Яичницу будешь? – Ирка отрицательно помотала головой. – Поэтому и в Ленинград поступать приехал, хотя и ежу понятно, что в столице оно, конечно, было бы перспективней… Странный он какой-то. Вроде о будущем своем думает, говорит, чувствует в себе талант… а от отца бежит, как последний дурак. Мол, я сам, все сам… Как же так? Учиться на журналистике – и чураться отца, известного на всю страну международника, который все может устроить! Все! – Лариса Дмитриевна задумчиво опустила руки. – Доча, дурой будешь, если его не охомутаешь! – произнесла она с рассеянным видом. – Глаз у меня наметан, чувствую, юноша с перспективой! – потом, изменившись в лице, отчеканила: – И не смей мне еще хоть раз в таком виде являться! Слышишь? Теперь марш в университет!
Если выход к Гостиному двору со станции метро «Невский проспект» был центром бурной деловой активности фарцовщиков и спекулянтов и именовался на городском жаргоне «Галерой», то выход на «Канал Грибоедова» скорее выглядел как место романтических встреч и безобидных посиделок на большом гранитном парапете, полукругом огибающим с внешней стороны вестибюль, от которого чуть-чуть по диагонали вправо открывался вид на Казанский собор. Наземный павильон «Канала Грибоедова» был встроен в знаменитый дом Энгельгардта (именно в этом доме Нина из лермонтовского «Маскарада» имела несчастье потерять на балу свой браслет), благодаря чему летом в тени под сводами входа на станцию было относительно прохладно, зимой же всегда значительно теплее, чем на улице. Этакий своеобразный микроклимат.
Выйдя из метро как раз в «микроклимате», Ирка без всякой на то причины задержалась вроде бы под предлогом выкурить сигарету. Не могла же она окончательно признаться, что уже который день ищет встречи с Борисом в точках стратегических подходов к университету, коими в первую очередь являлись две станции метро – «Невский проспект» и «Василеостровская». Шансов, откровенно говоря, раз-два и обчелся. Она уже успела будто невзначай послоняться по журфаку, благо именно там располагалась объединенная библиотека двух факультетов, – в конце семестра ей вдруг позарез понадобился один учебник. Заодно с безразличным видом, совершенно случайно, исключительно из праздного любопытства, буквально краешком глаза заглянула в расписание занятий пятикурсников. Расписание гласило, что у людей преддипломный отпуск. Ясно, что на журфаке ловить больше нечего.
Два-три дня с момента их знакомства Ирку не покидала уверенность, что Борис вот-вот объявится. Скорее всего, на факультете. Она прогуливала лекцию за лекцией, семинар за семинаром, выстаивала на Сачкодроме, после последней пары мчалась домой дежурить у телефона… Напрашивались неутешительные выводы: во-первых, он не придет и не позвонит, во-вторых, она умудрилась втюриться в человека, с которым всего-навсего прошлась до «Астории», ну и выпила там бокал-другой шампанского. И что с этим делать? Страдать? Забыть?
Она решила погулять по Невскому, предварительно перекусив в «Минутке»[1] Не успела она подуть на бульон и откусить пирожок, как к ее столику подкатили три фарцовщика, неубедительно и шумно изображавшие из себя иностранцев, и обратились к ней на чудовищной смеси финского и шведского: «Можно девочка все хорошо пять рублей за блок сигарет». И тому подобная тарабарщина. Свободно по-шведски Ирка еще не говорила, но без труда объяснялась, все-таки второй язык после норвежского, финский же начала изучать совсем недавно, но кое-что могла сказать… Запрокинув голову от хохота, она сначала бойко послала их на шведском, потом на менее уверенном финском. У парней сработал рефлекс: «объект для бизнеса», и один из них тут же перешел на английский, но Ирка перебила уже по-русски:
– Ребята! Я вас умоляю! Ваш финско-шведский никуда не канает! Русская я, русская! Что, прицел сбился?
Завязалась вполне дружеская беседа: нет, прицел не сбился, просто покуражились немножко. А ты откуда, сестра, так ловко шпаришь? Ах, в «Интуристе» группы водишь… Шведы и норвежцы? Послушай, есть к тебе деловое предложение. Да ты выслушай сначала, потом отказываться будешь. Ну смотри, как знаешь. Хоть телефончик оставь. А с прицелом все в порядке. Смотри!
Развернувшись лицом к огромному окну, они принялись выбирать иностранцев в толпе прохожих, аргументированно объясняя, кто откуда: только немцы носят такие добротные и неброские ботинки, только американцы так скалятся по любому поводу, такие куртки продаются в чухонских магазинах Сёппалла и тому подобное.
Кафе «Минутка», расположенное на втором этаже, обладало колоссальным стратегическим преимуществом для фарцовщиков: из соседних интуристовских гостиниц «Астория» и «Европейская» на прогулку по Невскому выходили сотни и сотни иностранцев. А ты стоишь в тепле и в полной безопасности, плечом к плечу с простыми обывателями жуешь пирожок, как с трибуны Мавзолея рассматриваешь прохожих и без суеты выбираешь объект для бизнеса.
– Ну а эта герла точно француженка! А целуется она… хрен его знает, может, даже и с рашенком, – вдруг воскликнул один из парней.
– Где? – спросила Ирка и тут же увидела смеющегося Бориса, на ходу целующего, сомнений нет, француженку, прямо вылитую Анук Эме. Ирка только что посмотрела «Мужчину и женщину» … Улыбка с ее лица не исчезла, и она не побледнела, как можно было бы ожидать, но внезапно физически ощутила в некоем внутреннем органе где-то в груди, где легкие, щемящую тоску.
– Всё, ребята, мне пора, – и она ринулась к выходу.
– Телефончик-то оставь!
– Joku toinen kerta![2]
В следующий раз Ирка встретила его через месяц на дискотеке в общаге на проспекте Добролюбова. Дискотека славилась на весь университет: ее вели мавританские арабы – обладатели умопомрачительной японской аппаратуры и многочисленных, естественно, свежих и не запиленных дисков и кассет. С блаженной улыбкой Ирка самозабвенно крутила бедрами под I Will Survive Глории Гейнор, как вдруг из-за спины появился Борис, чуть приобнял ее и, пересиливая грохот музыки, прокричал в ухо, погрузившись лицом в ее кудряшки и словно обнюхивая ее: «Привет, прелестное дитя! Потанцуем!» Затем тут же, не дожидаясь согласия, подхватил ее и, не сходя с места, только движением рук задал ритм, а когда она почувствовала, что от нее требуется, задвигался сам. У них так славно получалось, что танцующие рядом непроизвольно образовали круг, в центре которого Ирка то падала в его объятия, то кружилась во все стороны. Танцевал он как никто другой, с какой-то негритянской пластикой и легкостью. Все ранее заготовленные обидные реплики мгновенно улетучились. Ирка, будто ненароком, иногда касалась губами его щек; от него опять – бывает же такое – вкусно пахло вином. В коротких перерывах между мелодиями он не отпускал ее, держал в объятиях и вел себя так, словно никого вокруг и не было.
Внезапно прервав танец, он взял Ирку за руку и подвел к одному из ведущих дискотеки. Знаками показав, чтобы араб снял наушники, он что-то прокричал ему на ухо, показывая на Ирку. Мавританец немедленно вышел из-за стены усилителей и дек.
– Мой друг Идрис, – представил его Борис, – мы сейчас поднимемся к нему в комнату… дело есть. А чтоб ты не скучала, Идрис угостит тебя чем-нибудь вкусненьким. Правда, Идрис? – Тот с достоинством утвердительно – кивнул.
Идрис жил в комнате один – почти невероятное явление для забитого сверх меры общежития. Он бы с удовольствием снял себе квартиру в городе, несмотря на категорический запрет иностранного отдела университета, но не стоило и пытаться – Идрис принадлежал к тому типу мавританских арабов, которые по цвету кожи мало чем отличаются от негров. Бдительные граждане тут же заложат. Вот он и оплачивал однушку своему номинальному соседу – ушлому поляку, шпарившему по-русски без акцента и очень кстати обладавшему прямо-таки рязанской внешностью.
Идрис налил Ирке «Чинзано», себе и Борису коньяк.
– Ты посиди тут чуток, Ириш, попей «Чинзано». А мы пока с человеком парой слов перекинемся, – Борис наклонился к ней, быстро ткнулся то ли губами, то ли носом в щеку. Потом, приобняв араба, отошел с ним к окну. На вермут Ирка даже не взглянула. «Что я тут сижу как дура и чего-то жду? Клялась же забыть! А тут не успела встретить, как сразу повелась… Неужели все страдания по новой?»
– Все, Борис, довольно. Дальше торговаться не будем, – громко произнес Идрис, прервав Иркины раздумья. – Боюсь, Хусейн там один не справится. Так что я побежал, а ты, если хочешь, посиди тут еще с девушкой, выпей коньяк и… – сделав многозначительную паузу, он без капли стеснения пожирающим взглядом осмотрел Ирку. – И дверь за собой не забудь захлопнуть!
Не успел он выйти, как Борис полез обниматься. Об этом он там внизу договаривался, тыкая в нее пальцем?! Ну уж нет! Вот так вот, в общаге! В комнате этого мерзкого араба! Не дождется! Ирка сбросила его руки. Он засмеялся:
– Давай по глотку выпьем! На брудершафт!
Еще чего! Она отрицательно замотала головой. Ей хотелось спуститься вниз, красиво танцевать, прижавшись друг к другу. Чтоб он шептал ей, как скучал, объяснил, где пропадал столько времени и почему, почему не искал ее… Наврет, конечно. А она очень постарается ему поверить…
– Ну смотри, а я махну, – и, налив себе полный стакан коньяка, он шумно плюхнулся на кровать. Пружинный матрас противно заскрипел под ним. «Вот ведь сволочь!», – внезапно решила Ирка и выскочила в коридор, с грохотом хлопнув дверью. Она заметалась в поисках туалета, нашла только душевую, зачем-то долго мыла там руки, потом, обламывая ногти, открывала окно. Когда наконец, чуть не выбив стекла, ей удалось распахнуть разбухшие за зиму створки, она закурила. «Да пошел он! Пусть катится к своей французской сучке!» То, что его подруга француженка, сомнению не подлежало, да и фарца так решила. Глаз-то у них наметан.