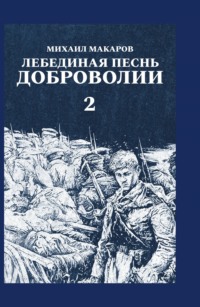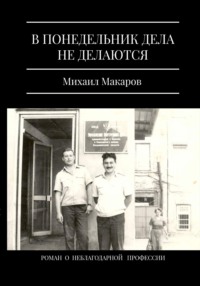Полная версия
Точка Невозврата
Безжалостно избиваемая свинцом и сталью конница побежала. Четвёртая рота сноровисто занимала господствующие холмы.
Туркул отыскал в цепи ловкую фигурку, перечеркнутую ремнями офицерской портупеи, кивнул удовлетворенно: «Цел наш Гриша». Капитана Иванова, при рождении наречённого Петром, боевые друзья за простоту, в которой горел свет русского праведника, называли Гришей.
Полковник поскакал на правый край, где полегли дозорные. Штабные едва поспевали за ним. Представляя, какая жуткая картина сейчас откроется, Туркул стиснул зубы.
Внезапно из травы безмолвно, словно видение, восстала троица стрелков. Чумазей кочегаров, потные, окровавленные, глаза по пятаку.
– Смиррна! – прохрипел старший унтер Запрягаев.
Полковник оторопел:
– Бра-атцы, да как же вы уцелели?
Ошарашенные бойцы стояли перед ним во фрунт[82].
Оглядевшись, Туркул увидел, что вокруг в изломанных позах валялись убитые лошади и люди. На сорной траве лишаями алела кровь. Не меньше десятка мертвецов насчитал полковник на прогалине.
Дозорные дышали как загнанные. Старый походник[83] Запрягаев под рукавом шинели нащупал зияющую прореху. Двое других солдат были из пленных, как большинство в роте Иванова.
Запрягаев в нескольких скупых фразах поведал о схватке.
Когда налетела конница, дозор принял единственно возможное решение – кинулся в траву. Унтер приказал лечь звездой – каблуки к каблукам – и открыть стрельбу пачками[84] во все три стороны. Мчавшиеся на них всадники попали под губительный огонь и в считанные секунды были убиты или переранены. Не понимая причины внезапных потерь, лава, руководствуясь инстинктом самосохранения, раздвоилась на рукава, обтекла прогалок на безопасном расстоянии.
Полковник с неподдельной искренностью благодарил стрелков за удаль.
– Страшно было, братцы? – спросил по-свойски.
Один из стрелков, по-крестьянски утирая рукавом струившийся по лбу пот, оскалил молодые зубы:
– Рази упомнишь, кады над башкою копыта сигают? Того гляди, размозжат черепок… Только, ваше высокородь, пехоту, ежели она не драпает, кавалерии ни в жисть не обратать!
– Ну дела… – переговаривались за спиной полковника штабные, – втроём, а сколько народу утоптали…
Бригада Барбовича осталась на прежнем участке, а Туркул, похоронив убитых, с отрядом пошёл на станцию Комаричи для присоединения к своему полку.
По дороге он с удивлением заметил, что лужицы стянуты слюдяным ячеистым ледком, тонко хрустевшим под копытами.
«Гляди-ка, заморозки, а в бою дышать нечем было».
Перешли речку Неруссу, здесь, в верхнем течении, – узкую, с заросшими ивой низкими берегами. Сквозь прозрачную быструю воду виднелось песчаное дно русла.
В Комаричах Туркула ждала телеграмма с приказом вступить в командование первым Офицерским стрелковым генерала Дроздовского полком. Усталость настолько овладела полковником, что известие о повышении, состоявшемся теперь и фактически, не принесло радости. Принимая поздравления подчинённых, он улыбался через силу, попутно просчитывая в уме первые управленческие решения в новой должности.
«Полк разбросан поротно на чрезмерно большом фронте. Вытянут в одну линию без полкового и частного резервов. Надлежит неотложно собрать его в один щит. После ужина и короткого отдыха станцию оставляем. Место сосредоточения – село Упорой».
20
С показушного парада Скоблин вернулся на позиции, когда кульминация боя за Становой Колодезь миновала.
С утра первому Корниловскому пришлось тяжко – навалились латыши, Земгальский полк. Поддерживавшие его артбатареи, целых восемь орудий, крыли без устали. Цепи белых, потонувшие в разрывах, прореженные убийственным шквалом, извиваясь, пятились к станции.
Как нельзя кстати на выручку ударникам пришёл «Витязь». Ворвавшись на полных парах во фланг противника, крепость на колёсах обрушила огневую мощь на ближнюю батарею. Красные артиллеристы, не дав в ответ ни одного выстрела, взялись за передки и удрали.
Бронепоезд перенёс фланкирующий огонь[85] на пехоту, которая побежала в сторону Орла, хоронясь по оврагам и перелескам.
Командовавший боевой частью «Витязя» подполковник Решетов, вдохновленный успехом, на свой страх и риск отважился на дерзкую вылазку.
Достигнув Стиши, экипаж взялся за починку взорванного пути. Пока велись работы, солдаты с прапорщиком Садовым обшаривали станцию.
В железнодорожной будке наткнулись на связиста латышской батареи, почему-то не покинувшего пост. Садов ударом ноги выбил дверь, оторопел при виде врага и с перепугу опорожнил в него, задравшего руки, барабан нагана. Завидная кожаная «шведка» превратилась в сито. В качестве трофея белогвардейцы забрали полевой телефонный аппарат, подле которого дежурил латыш.
Восстановив полотно, бронепоезд продолжил движение. Скрытности манёвра способствовала низина, обрамлённая деревьями, частично сохранившими листву.
У входных семафоров станции Орёл Решетов замешкался, не зная следующего хода. Здание вокзала, напоминавшее островерхими башнями замок средневекового рыцаря, лежало как на блюде.
Поддержан ли его порыв пехотой, подполковник не ведал. Здравый смысл в нём боролся с азартом загонщика. Борьба шла на равных, пока советская артиллерия не накрыла край выемки, из которой выкатился броневик. Толстые столбы земли со страшным грохотом начали вырастать в сотне саженей позади «Витязя».
– Отходим! – Решетов протиснулся в башню, с усилием опустил за собой тяжёлый люк.
Красные, решив поймать бронепоезд в ловушку, открыли заградительный огонь. Подполковник с секундомером в руке высчитывал момент между очередями.
– Полный назад! – как укушенный заорал он в латунный рожок внутренней связи.
Состав тяжко дёрнулся, набирая ход. Команда бронеплощадки оцепенела, верующие зашептали молитвы.
Вдруг громовой раскат сотряс многотонную стальную коробку, словно циклопическая кувалда с размаха огрела. Нутро вагона наполнилось удушливым сизым дымом.
– Полный… кх… на… кхм назад… ках! – Решетов надсаживался от кашля.
«Витязь» притаился в низинке, оставив пушечную молотьбу в стороне Орла. По краям пробоины в крыше толстенный металл скрутился папирусом. Солдаты с лязгом распахивали люки, дверцы. Потянуло слякотным сквозняком.
При подсчёте урона контуженных и посечённых окалиной в расчёт не брали. Настоящих раненых оказалось трое.
Осколок распахал плечо прапорщику Садову, скулившему обиженным щеночком:
– Скор божий суд, Пал Палыч…
Заряжающего Кинько взрывной волной припечатало об угол снарядного ящика. Делая безуспешные попытки приподняться на локте, он умывался юшкой[86] и мычал.
Наиболее серьёзно пострадал старший фейерверкер Куликов. Судя по кровавым пузырям, надувавшимся в чёрной щели его волосатого рта, кусок железа, пробив грудную клетку, застрял в лёгком. Бородач утробно булькал, пучил глаза и скрежетал по рифлёному железу пола подкованными башмаками.
Пострадавшим оказали первую помощь.
«Витязь» пятился раком до станции Стишь, где подвергся обстрелу из тяжёлых орудий.
– Осерчали на нас… то… товарищи… в бога, в душу… в кузину-хористку, – бормотал Решетов, на дрожащих ногах мотаясь от одного борта к другому.
Драпали без остановок до Станового Колодезя. Там к бронепоезду на низенькой гривастой савраске подскочил разведчик.
– Поручик Баранушкин, – представился. – Командир первого Корниловского передаёт благодарность за доблестную работу, господин полковник!
– А-а?! Не слышу! – Решетов трудно ворочал головой, подставляя мясистое ухо, из раковины которого извивался чёрный ручеёк подсохшей крови.
Поручик гаркнул во всё горло. Старший офицер «Витязя» в ответ тускло ощерился. Вид он имел очумелый. Из бронеплощадки расползалась нестерпимо кислая химическая вонь.
– Досталось вам? – поинтересовался Баранушкин с сочувствием.
– Тяжелораненый! У меня! – тараща глаза, отрывисто выкрикнул Решетов. – До лазарета! Не довезу!
– На станции развернут наш перевязочный пункт, – корниловец соображал стремительно. – Ожидайте сестру.
И, наддав каблуками в тугое брюхо лошади, стреканул по тропе, вилявшей вдоль путей.
Скоро прикатилась, подпрыгивая на кочках, санитарная двуколка под брезентовой крышей. Рядом с ездовым жалась Лена Михеева – бледная, с очень серьёзным лицом. Подполковник подал ей руку, помог забраться внутрь вагона.
– Уйдите от света, – скомандовала Лена, приступая к осмотру.
О результатах информировала сразу:
– У прапорщика поврежден крупный сосуд, опасности для жизни нет. Жгут наложен правильно, через час ослабьте. У солдата травма головы. Кости черепа на ощупь целы. Хорошо, что в сознании. Обеспечьте покой, сверните шинель, подложите под голову и плечи. Унтер-офицер плох, нуждается в экстренной операции.
– У вас есть хирург?! – Решетов по-прежнему не замечал, что орёт.
Сестра милосердия заправила под косынку золотистую прядку, выбившуюся на лоб.
– Быстро грузите в двуколку, – приняла решение. – Так хоть один шанс есть. До Курска ему не дотянуть.
– Хрулёв, Квартич, выносите! – дал команду подполковник, повернулся к Михеевой, сдернул с головы фуражку, ткнулся лицом в руку женщины, ощутил её заскорузлость. – Благодарю, сестра, благодарю вас… Мы с Ерофей Захарычем год, как вместе бедуем… Правильный мужик… Жаль, когда такие помирают…
Лена на второстепенное не отвлеклась, помогала солдатам, неуклюже ворочавшим неудобную ношу у дверного проёма.
Обратно по ухабам не гнали, жалели раненого.
Фейерверкер Куликов испустил дух на операционном столе при рассечении грудины.
– Папироску мне зажгите, Леночка, – хирург растопырил пальцы, оберегая вымытые руки для следующего увечного.
Михеева неумело прикурила, закашлялась, на глазах её выбились слезы.
– Леночка, вы святая, – хирург залихватски подкусил «Лафермъ № 6», сощурившись, затянулся. – Даже такой невинный порок, как табакокурение, к вам не пристал… Ну-с, помолясь, продолжим…
Наследство фейерверкера в сенях ревизовал дезинфектор Филиппыч.
– Не много добра нажил сердешный. Часишкам в базарный день красная цена – целковый… Ти-икают… Человека нету, а механизм бездушный ести, – философствовал словоохотливый старик.
Когда Михеева вышла из операционной, дезинфектор огладил толстой ладонью завёрнутые в тряпицу пожитки:
– Тут, значитца, барахлишко ихнее. Отдельно часы, «Куалит Брегет» называются. Как оприходовать?
– Далеко не прячьте, Гордей Филиппович. С первой оказией передадим на «Витязь».
– Рухлядь, так и быть, определю в сундук, а брегетик, не обессудьте, Елена Михайловна, вам вручу-с. Как вам известно, грешок за мной водится, могу не совладать с искусом, на спиритус вини[87] обменять, – дезинфектор, в младые годы игравший в самодеятельном театре, не отвык от привычки изъясняться витиевато.
Его мимика и нарочитые жесты заставили выбившуюся из сил сестру слабо улыбнуться:
– Что с вами поделаешь, Гордей Филиппович… Давайте часы, сохраню.
21
Вторые сутки Брошкин сидел в подвале орловской ВЧК[88]. Латышам, вылущившим Веню из пакгауза, он назвался студентом-политехником, мирным горожанином. Заговорил им зубы. Дескать, был задержан корниловским патрулём за хождение в ночное время без пропуска.
Белобрысые парни в сбитых на затылок шапках, с распахнутыми на груди воротами оказались по-деревенски простодушными.
– Ити, тофарищ. Рефолюция тепя осфопотила! – подтолкнул в спину сухощавый стрелок.
Брошкин сделал боязливый приставной шажок в сторону. Краем глаза засёк – пожилой путеец в промасленной робе нашёптывал что-то на ухо третьему латышу.
Этот имел командирское обличье – фуражку с высоким околышем, белые поперечные нашивки на кумачовых петлицах долгополой шинели.
– А ну, стой! – скинул он с плеча американский винчестер с клинковым штыком.
Так Вениамин вновь оказался под замком. Орловские чрезвычайщики, неделю отсутствовавшие в городе, навёрстывали упущенное. Застенок заполнялся стремительно. Хватали всех, на кого пало подозрение в пособничестве добровольцам. К утру камера была нашпигована под завязку, чекисты начали прореживать улов.
Дошла очередь и до Брошкина, при задержании назвавшего данные сокурсника по киевской альма-матер. Собственную фамилию озвучить он не решился. Подумал: «Вдруг вездесущая ЧК имеет список осважников».
– Кто будет Альтфедер?! На выход! – не сразу Веня смекнул, что отозваться должен он.
Протиснулся к приоткрытой двери, хмурому конвоиру улыбнулся заискивающе:
– Извините, задремал.
Вилянье хвостиком не спасло от болезненного тычка ключом под рёбра и оглушительного рыка:
– Не задеррживать!
Предварительный допрос вёл молодой кадыкастый следователь, чужеродно ощущавший себя в шикарно обставленном кабинете. Использовать по назначению мраморный чернильный прибор, занимавший треть стола, он не решался. Макал ученическое пёрышко «рондо» в стеклянную непроливайку.
Поняв, что бить и пытать сейчас его не станут, Брошкин приободрился, на вопросы отвечал бойко. Апеллировал к логике – если бы он пособничал корниловцам, разве бы сунули они его в холодную.
Ютившийся на краю стула с высокой резной спинкой следователь записывал показания с прилежанием троечника, взявшегося за ум. Даже высунул кончик языка.
Веня отважился пошутить в грозном учреждении.
– Разве существуют в природе белогвардейцы с таким профилем? – риторический вопрос он наполнил многовековой грустью своего народа.
Следователь озадаченно оторвал близорукие глаза от протокола, вероятно, ожидая пояснений.
Паузу нарушило явление разбитной особы женского пола. Без стука ворвавшись в кабинет, девица, не обращая внимания на допрашиваемого, выпалила:
– Валька, беги бегом, а то они всё сожрут, на бобах останешься!
Юный чекист залился краской насыщенного алого цвета, сконфуженно покосился на Брошкина, бормотнул маловразумительное.
Вениамин пришёл ему на подмогу, предложив не пренебрегать вопросом питания, который, безусловно, приоритетнее формального расследования, заведомо не имеющего судебной перспективы.
Следователь, очарованный юридическими терминами, для порядка спросил: «Вы так думаете?», получил положительный ответ, после чего нажал кнопку звонка.
Брошкин вернулся в камеру, видя в поступке чекиста добрый знак.
«Будь я действительно интересен, он бы меня на жратву не променял», – такие мысли побежали по кругу в голове.
Сокамерники Веней не персонифицировались, он воспринимал их единой массой, насквозь пропитанной потом и страхом. Уклоняясь от любых разговоров, Брошкин подчёркивал случайность своего нахождения в кутузке.
На обед дали каменной чёрствости хлеб и просяной суп с кукурузой, который принесли в грязном ведре. Веня к еде не притронулся, его знаменитый аппетит затаился.
В камере шло движение сродни броуновскому. Людей выдёргивали по одному и группами, с вещами и без оных, одни возвращались, а другие нет, прибывали новички. В кажущемся хаосе присутствовала некая система, позволявшая поддерживать численность популяции узников на одном уровне. Подвальное помещение не пустело, но и не переполнялось. Гул в нём не стихал ни на минуту. С низкого сводчатого потолка срывались капли конденсата. Из разбитого оконца тянуло стылой сыростью, не дававшей рассеяться удушливым клубам табачного дыма.
Утомившись от бдения, Брошкин натянул на голову ворот пальто, свернулся калачиком и забился в угол нар. В зыбком полузабытьи он утратил чувство времени, а затем и реальности.
Когда его затребовали наверх, Вениамин, вскинувшись, не мог сообразить – где он есть. Вспомнив, тихонечко захныкал, жалея, что нельзя зареветь в голос. На лестнице запоздало спохватился, что не удосужился справить малую нужду.
Отделанные кожей и гобеленом апартаменты обрели нового хозяина. Скуластый длинноволосый мужчина, с головы до пят – в скрипучем хроме, едва завидев доставленного арестанта, обрушил на него шквал фраз, разящих подобно молниям.
– Пролетариат в своей борьбе беспощаден! Ни одного ругательства по адресу злейших врагов! Без всяких пыток и истязательств! Без лишних слов! Побеждённые продажные души должны быть стерты с лица земли! Советуем не молить о пощаде, не предлагать своих услуг, а хладнокровно наблюдать за шествием революции. У кого уши, пусть слышит – живёт только жизнеспособный! Побеждает самоотверженный, сильный, стальной…
От такой встречи Веня не просто заробел, ввергся в ужас. Приплясывая от нестерпимой рези мочевого пузыря, корёжился под заклинаниями кожаного чекиста.
На первый вопрос по существу, кем он был уведомлен о готовившемся подрыве бронепоезда, Брошкин запричитал, что иуда-железнодорожник бессовестно его оговорил, что он искренний попутчик революции…
– Не попутчик, соратник! За меня может поручиться часовщик… Фамилия его… фамилия, как же, чёрт… Караваев! Он видный подпольщик, он вам докажет, что я не враг…
Веня не заметил, как упустил струю, от которой в штанине тяжело, будто от компресса, потеплело.
Не видя иного варианта избавления от волосатого демона, Брошкин выложил всё, что знал о часовщике Юрии Юрьевиче, проживавшем в верхней части города рядом с постоялым двором. Разумеется, о связях Караваева с белой контрразведкой Веня умолчал, равно как и о цели конспиративной встречи с ним.
Суровый следователь кивал в такт всхлипам подследственного, поощряя к подробностям. Когда поставленный на правеж замолк, сотрудник ЧК откинул на чернильном приборе бронзовую крышку, погрузил в неё перо, встряхнул волосами, слипшимися в воронье крыло, и приступил к документированию.
22
С миру по нитке – голому рубашка. Тряхнув в Белгороде и Харькове вербовочные бюро, ротмистр Корсунов вернулся в полк с шестью солдатами, ранее служившими в кавалерии. В силки попался даже родимый новгородский драгун, пристроившийся в полиции. Выдернуть ловчилу с тёплого места удалось благодаря приказу главкома, запретившему службу в страже лицам, годным к строевой.
Вся шестёрка была безлошадной, но выглядела прилично. Кузьмин чохом определил новичков во взвод разведки, к вахмистру Сагановичу под начало.
Корсунов продолжил знакомство с эскадронами. Командир третьего – поручик Тунгушпаев отдавался службе без остатка. Его подвижничество приносило осязаемые результаты. На учении гусары хорошо показали себя, особенно в пешем строю. Конниками пока они были среднего качества.
Но настораживала суровость Тунгушпаева с солдатами. За малейшую провинность он ставил «под шашку» при полной боевой выкладке. Вместе с тем оскорблений и мордобоя нижние чины его эскадрона не знали.
Ротмистр предположил, что поручик – скороспелый продукт гражданской междоусобицы. Хвать, оказался тот коренным ахтырцем[89], имевшим за плечами Тверское кавалерийское училище. Выпущен был корнетом под занавес 1916 года.
Ничего сверхъестественного в том, что офицером императорской кавалерии стал инородец, не было. Мировая война открыла двери престижных военных учебных заведений представителям всех сословий и разного вероисповедания.
Тунгушпаев к тому же имел влиятельного покровителя. В младенчестве он был взят на воспитание аристократом известной на юге России фамилии, князем N. Получил качественное домашнее образование, владел тремя европейскими языками, музицировал, разбирался в коневодстве и виноделии. Вероятно, из него готовили управляющего крупным имением.
С конца шестнадцатого года ахтырские гусары действовали на Румынском фронте. Судя по «клюкве»[90] и Станиславу третьей степени с мечами, корнет Тунгушпаев там проявил себя достойно.
Спустя месяц после большевистского переворота он оставил полк, проживал в Пятигорске у родни. В отношении новой власти держал нейтралитет, ошибочно полагая, что такой расклад её устроит.
В октябре восемнадцатого князь N был казнён у подножия горы Машук в группе заложников вместе с генералами Рузским и Радко-Дмитриевым. Тунгушпаев не стал жертвой террора чудом.
После освобождения Северного Кавказа от красных он поступил в Добровольческую армию. Воевал в кубанских конных частях генерала Покровского. За отличия в боях был произведён в следующий чин.
В мае 1919 года в сражении за станицу Великокняжескую получил пулевое ранение в бедро. В госпитале подхватил тиф, сперва – «exanthematicus»[91], потом – «recurrens»[92].
По выздоровлении Тунгушпаев подал рапорт о переводе в регулярную кавалерию. Прошение попалось на глаза Кузьмину, к формированию которого пристало четверо ахтырцев – подпрапорщик и трое гусар. С учётом объявившегося поручика полковник загорелся идеей третий эскадрон сделать гусарским.
Как истинный сын степей, Тунгушпаев скупился на эмоции и слова. За офицерским столом вёл себя сдержанно, алкоголь игнорировал. Был приличным спортсменом. В верховой езде отстаивал итальянский метод – ездил с укороченными стременами, привстав в седле, наклоняя корпус вперёд на галопе и во время преодоления препятствий.
Корсунов попробовал завести с поручиком дискуссию:
– Ох, уж эти итальяшки! Зачинатели моды! Обратитесь-ка к истории – у них сроду не было большой кавалерии. Невозможно долго ездить с полусогнутой ногой – затекает. И наша традиционная облегчённая рысь абсурдна. Лично мне ближе казачья посадка – ровная, безо всяких подпрыгиваний, нога вытянута. Мундштук – долой, всаднику – морока со второй парой поводьев, лошади – мучение, эффекта – нуль. Казаки не признают мундштука, а они – сыны степей, природные наездники…
Тунгушпаев на тираду помощника командира полка ответил кратко:
– Казаки – животные.
Не иначе служба в иррегулярной коннице оставила в его душе глубокий след.
Корсунов помнил предупреждение Кузьмина насчет «закидонов» поручика. Первое чудачество проявилось в стремлении посадить гусар на лошадей одной масти. Трудности с покупкой конского состава Тунгушпаева не заботили совершенно.
– Господин ротмистр, третий эскадрон по регламенту должен иметь вороных лошадей, – отозвался ахтырец на пожелание начальства впредь не забраковывать караковых и рыжих.
Правой рукой Тунгушпаева ходил подпрапорщик[93] Вайнмаер, бывалый гусар. Этот блондин с прозрачными глазами и жёсткими прокуренными усищами слыл немыслимым храбрецом. Случай помог выяснить, какого свойства была его отвага.
Тунгушпаев считал в условиях современной войны пику обузой для кавалериста. В данном вопросе он не был оригиналом, большинство молодых офицеров мыслило аналогично.
Пик имелось в достатке, но гусары владению ими не обучались. Корсунов, в силу занимаемой должности, потворствовать нарушению устава не мог. Лекцию о мощи данного вида холодного оружия и его деморализующем эффекте на противника он опустил. Приказав эскадрону построиться, ротмистр сел на лошадь, разобрал поводья, взял пику и приказал четверым наиболее опытным наездникам подойти к нему на сабельный удар.
Вышколенная Маркиза, повинуясь наружному шенкелю, согнулась в боку и двинулась вольтом[94]. Корсунов, держа древко за среднюю часть, завращал длинной пикой так ловко и стремительно, что атаковавшие его гусары шарахнулись в разные стороны. Грузная комплекция помощника командира полка оказалась обманчивой.
Кавалеристы предприняли ещё ряд попыток напасть, также окончившихся неуспехом. Ротмистр спрятал в усах довольную ухмылку, былые навыки не подвели.
На вызов: «Есть другие охотники?» откликнулся подпрапорщик Вайнмаер. Вынув шашку в положение «к бою», он крепко пришпорил рослого жеребца, отчего тот взял с места рысью.
Гусар устремился на ротмистра неукротимым носорогом, невзирая на сыпавшиеся по рукам и голове удары древком. Действуй Корсунов в полную силу, он, без сомнения, выбил бы противника из седла, покалечив или убив.
Продравший оборону Вайнмаер нанёс удар шашкой направо. Ротмистр успел парировать наскок, по сильной отдаче отметив его серьёзность. Во избежание ранений Корсунов прекратил схватку и громко похвалил подпрапорщика.
Тот рявкнул: «Рад стараться!» и осторожно коснулся здоровенного багрового желвака, выскочившего под глазом.
Люди, лезущие напролом, начисто лишены воображения. Они не задумываются над тем, какие последствия вызовут те или иные действия, и потому окружающими принимаются за смельчаков. К их когорте принадлежал Вайнмаер. Странно, что, воюя пять лет, он с такими талантами оставался живым. Впрочем, не зря народная мудрость утверждает: «Дураку – везде счастье».
– Вклю… чите работу… работу с пикой в расписание занятий, поручик, – успокаивая бурное дыхание, приказал Корсунов.
Тон его не предполагал возражений.
– Слушаюсь, господин ротмистр, – взял под козырёк бесстрастный Тунгушпаев.
Несмотря на установившиеся холода, он продолжал форсить в фасонной ахтырской фуражечке с ярко-жёлтым околышем и коричневой тульей.