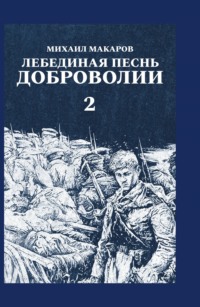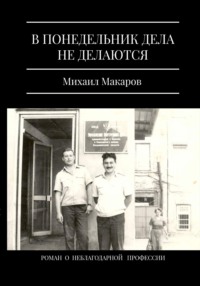Полная версия
Точка Невозврата
Во время недавнего нахождения штабс-капитана на излечении аграрная политика Доброволии в палате обсуждалась бурно. Дискуссия по поводу законов «О сборе урожая» и «О посевах» едва не увенчалась рукопашной. Меньшая часть офицеров считала эти институции неоправданной уступкой черни, легализующей самозахваты земли. Законоположения де предоставили захватчикам право пользования наделами, декларировали обеспечение их интересов при сборе урожая. Большинство, в рядах которого находился Маштаков, было убеждено: законы – пудовый камень на шею воюющей армии. Вместо того чтобы заручиться столь необходимой поддержкой крестьянства, правители, не взяв Москвы, провозгласили, что земля будет возвращена помещикам, а хлеборобам пообещали подачку в виде части урожая, и то на первый год.
Заполняя тягучую паузу, штабс-капитан от окурка поджёг новую папироску.
Староста ещё не ведал о хлебной повинности, введённой генералом Деникиным в подконтрольных ему губерниях. С каждой десятины крестьянин должен поставить пять пудов зерна. Поставки обеспечивались даже не бумажными деньгами, а квитанциями.
– Кто-то потребовал возмещение, Пров Зиновьевич?
– Да нет, барин наш покуда не объявлялся. В Замостье вот трясут мужика.
Правдоискатель Маштаков по дороге из госпиталя угодил в историю, связанную с затронутым вопросом. В Малоархангельском уезде на пару с молодым комбатом второго Корниловского полка Померанцевым вступились они за крестьян. Деревенька носила прозаическое название Мокрецы. Там вернулся из небытия помещик, объявивший обществу, что урожай принадлежит ему. Оплачивать труд селян он не отказывался, но предупредил – при расчёте примет к сведению самовольную эксплуатацию скота и сельхозтехники. Крестьяне от новостей, предрекавших голод, понятное дело, оторопели.
Случайно узнавшие о конфликте корниловцы навестили землевладельца в его родовом гнезде. Расчёт обескуражить быстротой и натиском не удался. Помещик, оказавшийся отставным ротмистром лейб-гвардии, парировал доводы ударников приказом Деникина, воспрещавшим армии вмешиваться в имущественные споры. Маштаков, за месяц пребывания в тылу поднаторевший в политике, уравновесил чаши весов аргументом, что собственники, в свою очередь, предостережены от насильственного восстановления вещных прав и сведения личных счётов. Решающее влияние оказало численное преимущество ходоков. Отставник пошёл на уступки, согласившись снизить размер подати.
– Дайте-ка сюда эту, как вы изволили выразиться, гумагу, – требовательно протянул руку штабс-капитан. – Забудьте про неё. Если возникнут притязания со стороны барина-боярина, смело обращайтесь к командиру любой добровольческой части, что окажется поблизости. Думаю, вы найдёте участие. Впрочем, сейчас тут горячо, и барин ваш навряд ли объявится.
При последней фразе староста насупил клочковатые брови, давая понять, что утешение вышло сомнительным. Потом поинтересовался осторожно:
– Оборону держать станете?
Цель вопроса была понятна. Бой за населённый пункт всегда чреват разрушениями и жертвами среди населения.
– Не думаю, – высказался корниловец, – позиция невыгодная.
Староста ушёл по делам, а штабс-капитан вернулся в хату, где с горячей водой без суеты побрился. Лицо, освобождённое от колкой неряшливой растительности, в том числе от усов, в непривычно большом настенном зеркале показалось голым, а рот – несуразно губастым, лягушачьим.
Объявившийся к полудню Пров Зиновьевич имел более загадочный вид, чем прежде, и снова попросил о разговоре с глазу на глаз.
– Как вы ни хвалитесь, какие вы бравые ребятушки, а одёжи путной у вас нету, – начал он. – Помёрзнете зимой. Красные, те силком одёжку отымали, а вы вон и не попросили даже.
Маштаков согласился – в тёплых вещах они остро нуждаются, но отнимать имущество не станут, на покупку же у них нет денег.
– Да што энти ваши «колокольчики»?! – выразительно перебрал в воздухе корявыми пальцами хозяин. – Вы, Михал Николаич, только прикажите собрать, и обчество вам окажет помочь, не сумлевайтесь.
– Я не имею права отдать такой приказ.
– Ну, так начальник ваш пущай распорядится. Вы – взводный командёр, пущай, значить, ротный прикажет.
– И он не станет, – штабс-капитан знал, что командир офицерской роты Белов, несмотря на весь свой авантюризм, к реквизициям у крестьян относился крайне щепетильно.
– Э-э-э, – досадливо подпрыгнул на лавке староста, – да возьмите ж в толк, я не за ради блажи приказ-то выспрашиваю. Не дай Бог, придут опять товарищи, прознают, что мы по своей воле манатки вам сбирали, они нас по головке-то не погладят.
Но и последний довод не убедил Маштакова. Он занялся своими делами, оставив Прова Зиновьевича недоумевать по поводу господской непрактичности.
Ближе к вечеру, когда начало смеркаться и корниловцы утвердились в надежде провести ещё одну ночь на обустроенном месте, прибежал посыльный от Белова с приказом выступать к станции Змиёвка. Ударники, спешно собираясь, недоумевали: «Почему снова удаляемся от передовой?». Впрочем, понятия фронт и тыл в последние дни сменило модное выражение «слоёный пирог». Враг мог быть повсюду.
Пров Зиновьевич принёс туго набитый мешок и молча бросил его на подводу. Шумно посопел, высморкался, потом буркнул:
– Не надо никаких приказов. Обойдёмся. Это вам от обчества. Только уж не говорите никому там. Храни вас Бог, ваши благородья!
Маштаков, ёжась бритым лицом, порывисто обнял старосту. Когда вышли из деревни, он развязал мешок. В нём оказалось несколько пар шерстяных носков домашней вязки и рукавиц, валенки, подшитые кожей, телогрейка, другие пожитки. По военной привычке, не откладывая дело в долгий ящик, штабс-капитан поделил имущество, стараясь обеспечить наиболее раздетых и никого не обидеть.
Прапорщик Вейденбах, которому достался меховой набрюшник, скинув шинель, на ходу облачался в обновку. Вполголоса, чтоб не услышал взводный, он хвалился прапорщику Сиволапову, как ночью в риге[98] оприходовал вдовую молодуху. Приземистый и корявый Сиволапов, знавший, что прощелыга Вейденбах не залечил сифилиса, вслух искренне завидовал его успехам у бабьей породы.
25
Иголку в стоге сена найти легче, чем человека в прифронтовом городе. Эта аксиома была для опытного сыскаря Листовского азбучной истиной. Тем не менее на месте он не усидел. Прихватив пару сотрудников из числа приближённых, толковых и хватких, капитан отправился в Курск. Расстояние в двести вёрст контрразведчики покрыли на автомобиле «Ford Model T» за день всего с одной поломкой. С учётом осенней распутицы результат оказался на большой палец.
В дороге Листовский препарировал ситуацию. Сыграть партию соло ему не удалось. С учётом водителя авто образовался квартет сообщников, каждый участник которого рассчитывал на вознаграждение за труд и риск. С подручными следовало объясниться. Если настаивать, что поездка носит официальный характер, партнёры отнесутся к исполнению обязанностей казённо, в связи с чем шансы на успех, и без того мизерные, станут нулевыми. Но и преждевременный «showdown»[99] – глупость. Оптимальный альтернат – пообещать каждому солидную награду за исполнение некоего конфиденциального задания.
В июне, незадолго до взятия Харькова добровольцами, Листовский узнал, что у большевиков не ладится с вывозом золота из Русско-Азиатского банка. Комиссары затянули с эвакуацией сверхценного груза до последнего. А тут, хвать, с юга к городу по железной дороге стремительно подошли дроздовцы! Одновременно терская конница генерала Топоркова, совершив рейд по тылам, нависла с севера, а подпольная офицерская организация полковника Двигубского подняла восстание непосредственно в Харькове.
Красные массово ринулись на прорыв. Эвакуировались многочисленные штабы, учреждения, склады. Коммунисты драпали с домочадцами и скарбом. Вокзал был забит отъезжающими, на путях теснились тысячные толпы людей, стремившихся оставить город. Боевики Двигубского умело множили панику – в местах скопления народа подрывали пироксилиновые заряды, стреляли беженцам в спину.
В этом кавардаке пятьдесят полновесных золотых слитков остались в Харькове. Разумеется, их не бросили в монументальном здании Русско-Азиатского банка, возведённом на улице Сумской в стиле модерн с элементами классицизма.
Груз спрятали в городе. Ответственный совслужащий, предоставивший Листовскому информацию, хотел её ценою купить лояльность белой власти, но на его беду в продаже имелась лишь быстрая смерть. Застрелив осведомителя, капитан сделал выбор. Он резонно рассудил, что достаточно наломался на государевой службе за грошовое жалованье.
Сначала фортуна улыбалась ему лучезарно. Покойный информатор не знал места тайника, но назвал троих партийцев, которым доверили презренный металл. Троице удалось вырваться из окружённого Харькова, главный всплыл в Орле, причём (о, удача!) вблизи старинного агента Листовского.
Агент членствовал в РСДРП[100] с 1913 года. Годом позже угодил в тенета политического розыска. Выбирая завербованному псевдоним, Листовский, носивший в ту пору иную фамилию и погоны ротмистра отдельного корпуса жандармов, назначенного в распоряжение Московского охранного отделения, не мудрствуя вывел на обложке дела: «Часовщик». Осведомитель вскоре заявил о себе как о квалифицированном сотруднике. До масштабов знаменитого Азефа было ему далече, но результаты он выдавал значимые, умудряясь при этом не бросать на себя подозрений. Сказывались навыки работы с высокоточными механизмами.
В феврале семнадцатого Временное правительство упразднило охранные отделения. Часть архива погибла при пожаре, имевшем явные признаки поджога. Не доверяя стихии, Листовский самолично уничтожил дневник агентурных сведений секретного сотрудника Часовщика.
Кроме того, он посоветовал осведомителю перебраться на периферию. В качестве места адаптации был выбран губернский Орёл – далеко от центра и в то же время не совсем глушь. Перед товарищами по партии, остававшейся нелегальной, переезд замотивировали преследованием полиции.
Затем по причине всероссийской смуты связь оборвалась. Листовский отыскал Часовщика в начале 1919 года, когда наведался в Орёл по делам подпольного центра. Агента он обнаружил при невысокой, но ответственной должности в губкоме РКП(б)[101] в относительно добром здравии. Относительность заключалась в прогрессировании пристрастия к питию. Слабость ещё не стала господствующей, но уже обременяла. Листовский не имел выбора, посему закрыл глаза на фактор риска. Он провёл с осведомителем беседу, в которой увещевания перемежал призывами к благоразумию и завуалированными угрозами. Часовщик пообещал умерить алкогольный раж. Несмотря на торжество рабоче-крестьянской власти, сотрудничества с контрреволюционной структурой он не отверг.
Контакты установились эпизодические, но обоюдополезные.
Как удалось Часовщику влезть в душу к комиссару, эвакуировавшему золото Русско-Азиатского банка, осталось секретом его профессиональной кухни. Суть важно, что в августе он прислал известие: «На след вышел, каков мой гешефт». Листовский ответил: «В обиде не останетесь», поторопил с конкретикой. На этой стадии пришлось импровизировать, потому как проверенный связной, вернее, связная случайно погибла при крушении поезда.
Привлечь штатного сотрудника контрразведчик остерёгся. Теперь задним умом он понимал, что поступил неправильно, но открутить плёнку назад было невозможно. Безопасный с виду вариант использования в качестве разового курьера служащего ОСВАГа, не посвящённого в цель задания, провалился.
Листовский изо всех сил надеялся, что причина фиаско случайна. Скоропалительная сдача Орла повлекла хаос, бурный водоворот событий завертел сотнями человеческих судеб словно щепками. Продублировать попытку контакта с Часовщиком на фоне разгоравшегося день ото дня генерального сражения было невозможно.
«А если этот Брошкин-Кошкин пропал не случайно, если жидёнка перехватила ЧК? – обмирал капитан. – Если так, чекисты безотлагательно начнут контроперацию. Субъекты они цепкие как репейник и на удивление живучие. Дважды контрразведка рапортовала о ликвидации харьковского подполья, а оно вовсю шевелится. Явится к товарищам посланец с красной стороны, золото банально перепрячут – и мои старания псу под хвост. Туда же и надежды…»
Листовский не мог обойтись без содействия курских коллег. Приезд он замотивировал приказом штабарма. Искали якобы одного комиссарчика из окружения «коменданта смерти» Саенко[102].
Услужливый начальник агентурного отдела Пискарёв отрядил в помощь своих орлов. Четыре группы, вооружившись терпением, фотографическими карточками разыскиваемого и его словесным портретом, потопали в город. Проверке подлежали вокзал, гостиницы, постоялые дворы, рынки, увеселительные заведения, госпитали.
По завершении инструктажа Листовский предоставил себя в распоряжение штабс-капитана Пискарёва, славившегося хлебосольством и языком без костей. Отбояриваться от возлияния было бесполезно и, главное, подозрительно.
Пискарёв находился в естественном для него состоянии – со слегка завёрнутым за воротник галстуком. Одутловатое лицо штабс-капитана состояло из набрякших мешочков, глубоких морщин и багрово-фиолетовых прожилок. Орден св. Владимира четвертой степени с мечами и бантом заявлял о его безукоризненном боевом прошлом. Образ утомившегося от молоха войны окопника дополняла серебряная нашивка за ранение.
Капитан достоверно знал, что всё это – декорация. А вот родство с генквартом[103], непосредственно курирующим контрразведывательную часть, было реальным. За счёт высокопоставленного дядюшки Пискарёв и держался на плаву.
Листовский аккуратно выпил, похвалил коньяк.
Хозяин кабинета поносил курские власти:
– Назначили губеррнатором святошу! Действительный статский советник Рримский-Коррсаков! Прредставитель старринного дворрянского ррода! Имперраторское училище прравоведения окончил! Дипломат! Рработать не даёт соверршенно… Основное меррило нашей с вами, капитан, деятельности каково? Прравильно, наполняемость тюррьмы… А этот вознамеррился божьим словом с кррасными борроться. Прредставляете, капитан, по вступлении в должность сей прросвящённый деятель обрратился к прротопресвитерру[104] с пррошением прислать талантливых прроповедников для поднятия ррелигиозного настрроения горрожан…
– Неужели местных не хватает? – тема Листовского не интересовала, вопрос он вставил, чтобы обозначить уважение к рассказчику.
А тот и рад-радёшенек, заклекотал дробным смешком, доверху наполнил пахучей жидкостью изящные серебряные рюмки.
– Тутошнее духовенство, по мнению губеррнатора, недееспособно, ибо «не опрравилось после двухлетнего гнёта большевиков». Теперрь с умным видом подсчитывают количество антисоветских прроповедей и ожидают прросветления в головах паствы!
Листовский цедил «Мартель», морщил губы в каучуковой улыбке, кивал одобрительно, в то время как в котле его до блеска выбритого черепа бурлили чёрные мысли.
«А ну, как Часовщик затеял свою игру, в которую втянул осважника? Они столковались и решили сами всё прибрать? Но ведь подавятся куском, не по зубам он им…»
Пискарёв трещал не умолкая. Он нуждался не в собеседнике – в слушателе. В рокочущих россказнях штабс-капитана преобладала церковная тематика, что свидетельствовало о его тесном общении с лицами духовного звания.
– Позавчерра генеррал Кутепов имел неосторрожность посоветовать епископу Феофану вывезти на юг чудотворрную Куррскую-Корренную икону знамения Божьей Матерри. Моментально всё жерребячье сословие охватила паника. Слова Кутепова ррасценили как намеррение сдать горрод…
За окном давно стемнело. Порывы ветра сотрясали стёкла, испытывали на прочность рассохшиеся рамы, по жестяному карнизу монотонно барабанил нескончаемый дождь. Листовский умудрился на какое-то время задремать, провалившись в угол дивана. Наполовину вернувшись в реальность, он вяло размышлял, что пора уже думать о ночлеге, на ночь глядя какой розыск, пустая трата сил…
Вдруг в коридоре тишину нарушили агрессивные звуки – дробь шагов, шуршанье мокрых одежд, голоса, похожие на сдавленный лай. Листовский потянулся мощным телом, с хищным клацаньем зевнул и уселся прямо как штык. Через проём распахнувшейся двери кабинет заполнили люди, с которых текла вода.
– Выключатель спррава, – подсказал штабс-капитан Пискарёв.
Раздался щелчок, и помещение залил грязный жёлтый свет, заставивший Листовского досадливо сощуриться.
Депутацию возглавлял брюхатый губошлёп Порфирьич, одетый по купеческой моде – в длинную синюю поддёвку со сборами сзади и высокий картуз с лаковым козырьком. Он торжественно выставил вперёд ногу в сапоге с «гамбургским передом» – матовой головкой при лаковом голенище – и осклабился самодовольно:
– А мы, Викентий Викторович, с уловом пожаловали-с.
Подтолкнул вперёд юного прапорщика в мокрой кожанке, надетой в один рукав. В распахе виднелась прижатая к груди рука на чёрной перевязи.
– Извольте, ваше благородие, доложить по форме, – когда Порфирьичу шла карта, он делался куражливым и пренебрегал правилами работы.
– Мину-уточку! – Листовский властным жестом остановил подчинённого, одновременно оборачиваясь к Пискарёву. – Господин штабс-капитан, предоставьте-ка нам возможность приватного разговора.
– П-понимаю, – Пискарёв, качнувшись, поднялся, цепляя за длинное горло бутылку с остатками коньяка.
Пока куряне освобождали кабинет, Порфирьич, припав к начальственному уху, жарко нашёптывал:
– Лазарет, когда шерстили, на этого, значить, субчика вышли… Он малость не в себе…
Возбуждённый толстяк брызгал слюной, поэтому капитан отстранился, вынул из кармана надушенный батистовый платок, промокнул им щёку.
– Виноват-с, ваше высокоблагородье, запамятовал, – Порфирьич увеличил дистанцию. – Жида нашего он с уверенностью опознал и описал прелестно. Росту два аршина[105] семь вершков[106], телосложения субтильного, наружностью производит впечатление приятное, волосы чёрные, курчавые, усов и бороды не носит, глаза карие, лоб высоко́й, нос большой, лицо вытянутое, рот умеренно́й, подбородок треугольно́й, уши оттопыренные. Одет в драповое пальто и клетчатую кепку…
За десять лет филёрского[107] промысла старший унтер-офицер Порфирьев преуспел в системе бертильонажа[108].
Листовский указал на свободное место на диване:
– Располагайтесь без церемоний, прапорщик. Чаю желаете? Здесь настоящий, байховый.
– Не беспокойтесь, господин капитан, – офицер сдёрнул с головы промокшую фуражку с обвисшими полями, нервно пригладил ладонью вихры.
Усаживаясь, он придержал за борт куртку, не давая съехать с раненого плеча.
– Помощник начальника пулемётной команды бронепоезда «Витязь» прапорщик Садов. Ваши люди, господин капитан, по дороге стращали меня контрразведкою, если я что-то скрывать надумаю… Скрывать решительно ничего не намерен. Третьего дня мною совершён греховный поступок, за который я поплатился увечьем. Расцениваю это как знак свыше, – молодой офицер выглядел одержимым, воспалённые глаза его не мигали. – Вы интересуетесь человеком на карточке? Я так и думал, что мы напрасно не поверили ему и обошлись с ним дурно. Фамилии не вспомню, он имел осважное удостоверение…
– Давайте по системе, прапорщик, – баритон Листовского стал нежнее атласа. – Начнем с того, какого числа и где вы видели этого господина…
Порфирьич, повинуясь мановению руки капитана, с грациозностью бегемота пятился в сторону двери. Листовский весь обратился в слух.
26
В отделанном кожей, шпалерами[109] и бронзой огромном кабинете, безбожно прокуренном новыми хозяевами, решалась судьба большевика с дореволюционным партстажем. Караваев ожидал приговора под замком. С показавшим на него субъектом, при аресте назвавшимся Альтфедером, всё было ясно – контра.
Показания Альтфедера и Караваева во многом совпадали. Сношение друг с другом признавали оба. Говорили одинаково – первый посетил второго с целью починки карманных часов. Мастер, произведя ремонт, предложил клиенту вспрыснуть знакомство.
Дальше шли разногласия. По версии Караваева, он спьяну растрепал гостю, имени которого не запомнил, о своём намерении взорвать корниловский бронепоезд. Слова эти были не более чем пустой похвальбой, в происхождении которой Караваев винил треклятую водку.
Альтфедер же утверждал, будто часовщик открылся ему как член подпольной большевистской организации. Испытывая, с его слов, ненависть к деникинским бандам, Альтфедер вызвался помогать делу революции. Свою осведомлённость о готовящейся диверсии он отрицал начисто. Позиция подследственного была глупой и опровергалась показаниями путейца Дудки, на глазах которого Альтфедер кинулся навстречу белогвардейскому патрулю с возгласом: «Господа, «Витязь» взлетит на воздух!»
Секретарь губкома Василий Горб – пламенно-рыжий угрюмый кряж заскорузлыми пальцами неловко перебирал листки протоколов, измаранные чернильной каллиграфией. Татуированный якорь на тыле ладони и клочок тельняшки, выглядывавший в распахе холщовой косоворотки, говорили за морскую душу партийца.
– Караваев был у меня с затеей насчёт броневика, – вперивая взор в длинноволосого чекиста Галлямова, хрипато заговорил Горб. – Аккурат на следующий день, как мы Орёл профукали. Буровил, будто динамиту могёт добыть и шнурок бикфордов. Просил пару хлопцев в подмогу, деньжат на покупку взрывчатки.
– И чего ты, Василий Семёныч? – Галлямов зыркал насмешливо, папироску грыз, играл гранитными скулами.
– Он пьяно́й завалился. Последнее время он, сердяга, не просыхал. Прогнал я его и наказал боле ко мне не суваться.
– Как пропойцу на должности держали?
– Положим, невелика шишка – регистратор. Из заведующих-то подотделом мы его по весне турнули. Хотя стоило – под зад коленом решительно. Старые заслуги учли. При царизме через аресты человек прошёл, через ссылку. Советскую власть в Орле вместе мы устанавливали.
– А на кой ляд в подполье его оставили?
– Промашку допустили. Думали, перед лицом опасности за ум возьмётся. Потом, на фатере евонной вывеска подходящая – «Часовая мастерская». Конспиративные встречи сподручно устраивать. Правда, за неделю, что Деника в городе хозяйничал, к услугам его не прибегли ни разу.
– Так ты полагаешь, товарищ Горб, пьяное разгильдяйство налицо тут, не контрреволюция? – Галлямов исподволь прощупывал собеседника на политическую вшивость.
– Разница невелика. Хорошо, белякам недосуг было, сунули они глиста этого кудрявого в паку[110], а сами лататы задали. Будь у них чуток времени, привёл бы их Альтфедер, или как там его на сам деле кличут, к Караваеву. А тот, хоть с боку припёка, знал достаточно. Мой адресок хотя бы…
– Какое твоё решение, Василь?
– Бюро решать будет. Что до меня, однозначно проголосую за исключение, – Горб прилагал усилия, чтобы не потупиться под пудовым взглядом чекиста.
Тот, по-лошадиному встряхнув гривой сальных волос, подкинул наживку:
– До конца следствия возьмёшь Каравая на поруки?
– На кой ляд он мне? Пущай у тебя, товарищ Галлямов, погостит.
– Он одиночку занимает, а в ней – нужда.
– Так кинь в общую.
– Не жалко? Вдруг удавят контрики?
– Юра из семи печей хлеб едал, нехай покрутится, – Горб задавил зевоту и потёр ладонью лицо так, что на впалых щеках проступили прятавшиеся веснушки. – Ночью три часа дрых, а один чёрт на ходу засыпаю. А ты, Равиль, гляжу, свеж, как из купели!
– Я силы черпаю в борьбе за правое дело, – переплетая на груди руки, чекист заскрипел хромовой курткой, утянутой жёлтыми ремнями.
Крепко пожав товарищу руку, секретарь Орловского губкома ушагал развалистой походочкой. Деревянная колодка двадцатизарядного «маузера» требовательно колотила по мускулистой ляжке, поторапливала.
Оставшись один, Галлямов выдвинул ящик стола, из недр которого извлёк стеклянный флакончик. С усилием, родившим негромкий упругий хлопок, выдернул из горловинки пробку, бережно посыпал руку у основания большого пальца белым порошком, прижался к нему ноздрёй и сильно втянул. Спустя минуту в голову чекиста вернулась морозная чёткость, а тело наполнила первобытная энергия. Галлямов требовательно нажал кнопку звонка.
Дежурный не появлялся недопустимо долго. Вытянувшись, наконец, на пороге, запыхавшимся видом своим и вытаращенными глазами он демонстрировал безграничное мальчишеское усердие.