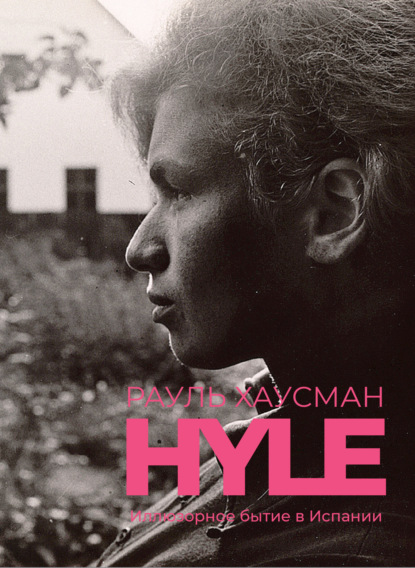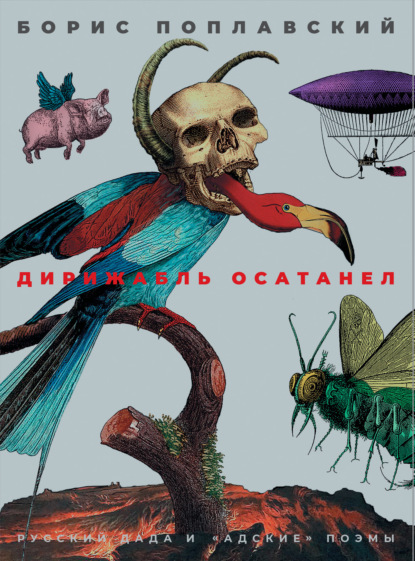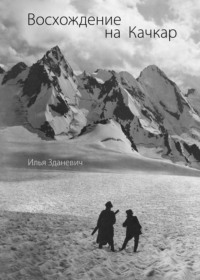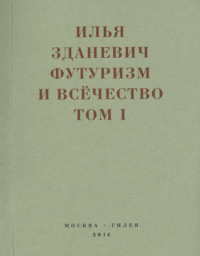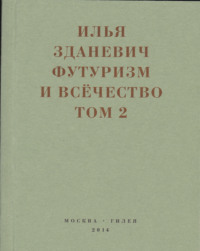Полная версия
Философия
– Знаете, сколько ставят на таракана, не меньше десяти лир, оборот каждой скачки не меньше тысячи лир, содержатель берёт себе пять процентов, золотое дно, золотое дно, – заключил он, в отчаянии закатывая глаза.
– Почему вы не откроете другого такого же притона, то есть клуба?
– Фи, подражать чужому уму, за кого вы меня принимаете, нет, у меня есть в запасе нечто более интересное, идите сюда, – и Левин увлёк спутника в один из салонов, где были опять дамы, но, кроме русских, немало гречанок, румынок и прочих местных, среди же мужчин аборигены также представляли большинство. – Эти бараны, греки, армяне и прочие местные богатеи, смотрите на них, не могут опомниться от русского ума. Вот кто им дал отличный урок. Эти салоны не пустеют круглые сутки, какое великолепие, какая красота. Да, вот мой секрет, я заказал доставить мне тараканов, хлебных, с острова Явы. Ничем не отличаются от местных, но зато бегуны. Я их выпущу на дорожку, буду играть на них, всё остальное дело плёвое, и посмотрим, кто лучше выстрижет этих баранов, я или содержатель с его пятью процентами. Завтра первые бега с участием моей конюшни, милости просим.
– Спросите о верзиле, – перебил Ильязд.
– Ах, да, вы правы, время уходит, я сейчас.
Он улетучился, но через минуту вернулся с видом опечаленным.
– Мы на этот раз опоздали, он был здесь, но вышел до нашего прихода. Но мы его несомненно найдём у мадам Ольги. Едем. Какая жалость, что я не могу захватить с собой некоторых из этих дам, но генеральша такая строгость. Умоляю вас, ведите себя там прилично.
Ильязд уже не роптал и не сопротивлялся. Подобно утреннему соблазну, в конце концов загнавшему его в кондитерскую, так и теперь он постепенно увлекался окружением, вдохновлялся, ему нравилась и обстановка, и женщины, и нравы, и восторги Левина передавались ему. Он уже почти с сожалением покинул тараканий клуб.
– Нам недалеко, – заявил Левин, – пройдёмтесь.
Они спустились по улице и упёрлись в подъезд подозрительного дома. Двери им открыл казак в форме конвойца, и выше, в прихожей, их встретил живописный весьма генерал, с непременной бородкой, в форме и при орденах, с адъютантскими погонами, приветствовал Левина с таким почтением, что еврейчик весь просиял от удовольствия и удовлетворения. Мадам Ли, которую находившиеся там русские величали Лией Никитичной[98], чёрствая дама с выправкой институтской, держалась в первом салоне, вся в чёрном и довоенном платье, оглядывая гостей через черепаховую лорнетку. Казалось, стоит её тронуть пальцем – и вся рассыплется.
– Как хорошо, что вы так хорошо владеете нашим языком, – начал Левин, – это мне позволит, представляя вам моего нового друга Ильязда, вам как следует расхвалить его. Прелестный мальчишка. Умница, действительно, – и он поцеловал ей с треском ручку, хотя и старался сделать это поглаже.
– Господин Левин, господин Ильязд, вы всем представлены, – провозгласила генеральша, приглашая их жестом пройти во второй салон. Тут не было никакой мебели, одни подушки на полу, разбросанные в множестве, на подушках всё те же русские дамы (и откуда их столько набралось?), беседующие с приличными мужчинами, преимущественно иностранцами.
– Все знакомые, – вскричал Левин, – ах, мадам Ли, как же вы умеете объединять общество! Комендант, – обратился он к одному французу, – как я вас рад видеть, капитан, – к другому англичанину. И, отойдя в сторону, Ильязду:
– Запомните эти гнусные рожи, коменданта и капитана, это чрезвычайно важно, эти люди всемогущи в Константинополе сейчас, во время союзной оккупации.
– Я не вижу Синейшины.
– Да не может быть, он в верхних этажах.
– В верхних?
– Ну да, чего вы удивляетесь, разве вы не видите, что это русский публичный дом последней марки. Генерал, генеральша – настоящие. Какая нация, какое великолепие! Загнаны к чёрту блохастые греческие и румынские притоны. Каждая из этих дам стоит всего тридцать лир, берите, угощаю. Только, пожалуйста, не вздумайте позволить себе какую-нибудь развязность здесь: вышибала, который нам открыл, не плоше вашего Синейшины. Вы просто подойдёте к даме, которая вам нравится, поговорите с ней недолго, а потом незаметно подыметесь наверх, она последует за вами. И кто бы мог подумать, что я, иностранец, должен вам давать эти уроки.
– Я не прочь вернуться сюда в следующий раз. У вас тут тоже интересы?
– Как же, это я снял помещение для мадам Ли, очаровательная женщина, гениальная, только у неё не было капиталов.
– Хорошо, не забудьте, что мы в поисках Синейшины!
– Ах, да, чёрт возьми, я вижу, вы настоящий делец, подождите, сейчас узнаю, – он отошел от Ильязда и приблизился к генеральше. Та покачала головой. Левин сделал печальную мину. – Нам не везёт, вашего Синего или моего Белобородого здесь сегодня не было. Но ещё не всё потеряно, едем в театр.
Театр находился в двух шагах. Это был дом более обширный, но менее подозрительный и ничем не походивший на театр. Здесь в тёмной прихожей Левин должен был вступить в переговоры по поводу своего спутника, после чего они получили домино и шёлковые полумаски.
– Этот маскарад обязателен, мой дорогой, но вы останетесь довольны.
Они поднялись по широкой лестнице и вошли в обширную залу со сценой, тёмную, где не было кресел, а только лежанки, на которых зрители возлежали. Сцена, освещённая наполовину. В зале удушливый запах пота, ропот поцелуев, вскрики, шёпот. Левин и Ильязд устроились у самого входа.
– Не стоит пытаться идти дальше, иначе служащие примут меня за педераста, а эта репутация не выгодна ни вам, ни мне, главному акционеру. Здесь нет профессиональных актёров, это светское место, здесь выступают только любители, из публики.
– Что же они делают?
– Боже, какой наивник, что делают – спариваются. Ведь для этого же здесь все в масках, подождите минуту. Хотя ещё немного рано, но около этого часа пары, тройки, а то и больше начинают следовать друг за другом на сцене. Обыкновенно вещи самые обыкновенные, но не менее часты и вещи необыкновенные.
– Это тоже русское учреждение?
– Чудак, что вы глухи, слепы что ли, ну, разумеется, все актёры тут (якобы любители, сказать по правде) русские, да и разве кто-нибудь в этом паршивом городе додумается до этого?[99] Нет, русские принесли настоящую культуру, показали себя варварам. Ах, Ильязд, неужели вы не понимаете, что русские – это золотое дно, и вот почему я, несмотря на все трудности, на то, что я еврей, проник в эту среду. Я богатею по часам, и я здесь в год составлю себе чудовищное состояние, и потом, о потом я вам как-нибудь расскажу о невероятных моих проектах…
– А Синейшина, вы не можете ли узнать, здесь ли он?
– Опять Синейшина, возьмите лучше какую-нибудь девочку.
– К чёрту вас с вашими девочками и вот вам обратно ваши пятьдесят лир, с такой сволочью, как вы, не желаю иметь никакого дела! Прочь! – и Ильязд бросился вон из залы и вниз по лестнице. Левин преследовал его, не отставая:
– Стойте, стойте, какой отвратительный характер, ну, чего вы разругались, возьмите эти деньги, они же вам нужны, останьтесь, успокойтесь.
Но Ильязд, сорвав маску и отбросив домино, выбежал на подъезд. Левин устремился вслед за ним. Внизу посередине пустынной улицы возвышалась какая-то личность, сложив руки на груди, и рассматривала театр.
– Вот он, – шепнул, оборачиваясь, Ильязд, – Синейшина? Ну да, Синейшина[100].
Суваров[101] вперился в Ильязда, глаза, полные беспокойства, впал в раздумье, поколебался с минуту, повернулся и, отстранив спокойно Ильязда, вошёл в театр, с яростью хлопнув дверью.
6[102]
Сумасшедший занимал всегда одну и ту же скамейку на Конской площади[103]77. (Какая бы ни была погода), он появлялся откуда-то из глубин Стамбула всегда на исходе дня, усаживался лицом к морю и, откинувшись и бормоча что-то, просиживал до первых лучей дня. Приносил он с собой несколько краюх хлеба, которых не трогал сам, а всё раздавал голубям, слетавшимся за полчаса до его прихода в ожидании благодетеля. Сумасшедший приходил на площадь далеко не ежедневно, иногда пропадал неделями, и, странное дело, голуби никогда не собирались напрасно, их появление предвещало, что Сумасшедший будет непременно.
Когда появился он впервые, сказать было трудно, но обратил впервые внимание на себя в памятный день переворота в апреле[104] 1909 года[105], когда Конская площадь была переполнена офицерством и после убийств младотурецких министров и офицеров, на исходе дня, вдруг появились летящие от мечети Баязида стаи голубей, а вслед за ними явился Сумасшедший и, вежливо попросив группу военных уступить ему его место, уселся, не обращая никакого внимания, и принялся раздавать хлеб птицам, покрывавшим его, усевшимся ему на плечи, на грудь, на руки и на голову.
Внешность Сумасшедшего была достаточно примечательна. С длинным иконописным лицом, кожей жёлтого воска и совершенно прозрачной, без единого намёка на кровь, с раздвоенной редкой бородой, с глазами спокойными до стеклянности, умный, не будь на нём страннейшего колпака и не обрамляй его лицо длинные пейсы, обнаруживал удивительное сходство с некоторыми изображениями в греческих церквях, почему и турчанки, и гречанки, и других исповеданий женщины, спускавшиеся в направлении источника Святого Серапиона искать исцеления от бесплодия или застоя и тому подобных женских историй и неизменно останавливавшиеся около Сумасшедшего, чтобы, хотя он и был евреем, приложиться к его одежде, и называли поэтому Сумасшедшего Иссой, но вообще он был известен просто под кличкой Сумасшедшего, и только немногие обитатели околотка, вроде Хаджи-Бабы, которые вообще всё решительно знали, утверждали, что его зовут не Иссой вовсе, а Озилио[106]. Но никто не мог ответить любознательному Ильязду, который во время своих дозоров проходил всякий раз мимо Сумасшедшего, сидевшего камнем и закинув голову, где он проживал и сколько лет могло ему быть.
Но в эту ночь пристыжённый, угнетённый, досадующий на костюм, которым его наделил Суваров, когда Ильязд после нудного и бесконечного путешествия, пройдя всю улицу Пера, перейдя мост, где с него ничего не взяли за переход, нанеся ему последний удар, – «Пропусти его так, разве не видишь – русский», – сказал один сборщик другому, – и преодолев пустые кварталы Стамбула, добрался до Софийской площади – час, в который он уже обычно заканчивал свою прогулку вокруг Ахмета, когда ветер, проснувшись[107], первым покидает поверхность моря и звёзды становятся особенно выразительными – час прогулки, которая, быть может, никогда не повторится, нарушенная заставой засевших в отхожих ямах русских, Ильязд не свернул налево, к себе домой, а, перейдя площадь, подошёл к Сумасшедшему и уселся с ним рядом. «Хаджи-Баба спит, а я больше не могу остаться в одиночестве после гнуснейшего Суварова. Вот этот меня очистит», – подумал он.
Сумасшедший не двинулся, не нарушая своей позы, в которой он оставался, по-видимому, долгие часы. Заметил ли он Ильязда? Ильязд просидел с четверть часа, прислушиваясь к шагам шагавших вдоль Айя Софии турецких часовых, единственным звукам, и наконец произнёс по-французски (Сумасшедший должен был понять его, ибо в Константинополе все понимали по-французски):
– Знаете ли вы, что я несчастен?
Сумасшедший ничего не ответил, оставался в течение получаса в той же позе, вздохнул, словно просыпаясь, невероятно медленно опустил и повернул в сторону Ильязда голову и, как будто только теперь вопрос наконец достиг его, ответил:
– Да, я знаю, – и после молчания: – Я уже много раз видел, как вы по ночам совершаете круг, идя против звёзд и навстречу солнцу, вместо того чтобы идти посолонь[108], – молчание. – Вы сами делаете себя несчастным.
– Вы думаете, что если бы я всякий раз шёл в обратном направлении, никаких несчастий и не было бы?
– Я хочу сказать, что вы не умеете делать выводов. Это даётся немногим. Но с тех, кому ничего не дано, ничего и не требуется. Вам же дано многое, но вы расточаете дар, не научившись делать выводов. Я думаю, что вы могли бы выучиться, если и не блестяще, то во всяком случае скрасить тот пробел, ужасный пробел, который делает всё данное вам ни к чему, – он говорил очень хорошо, не на вульгарном французском языке Константинополя, а литературно, точно воспитанник духовной семинарии, округляя изречения. – Я вас знаю, вы можете ничего не говорить о себе, ваше прошлое, настоящее, будущее мне теперь ясно. Вы, горе от ума, одна из многих жертв той лихорадки, которую переживает человечество. Но вы не первый и не последний. Смотрите на неё, – и Сумасшедший простёр руку к небу. Ильязд поднял глаза, соображая:
– Полярная звезда?
– Да, знаете ли вы, что с ней происходит? – Врать не было никакой возможности, и Ильязд, хотя и привыкший делать вид, что он решительно всё знает, а с другой стороны, ничему не удивляться и считать естественным, что под личиной вшивого сумасшедшего скрывается всемогущий маг, пробормотал, смутившись:
– Нет, не знаю.
– Это естественно, вы знаете, что это Полярная звезда, но выводов не делаете. А между тем она приближается к полюсу. Процесс этот начался тысячи две лет тому назад, с событиями, слишком всем хорошо известными, и приблизительно с тысячного года после рождества, когда европейское первенство начинает определяться, звезда эта стала тем, чем она есть, Полярной. Чем ближе она к полюсу, тем с большею быстротой подымается, достигая зенита и уже давая проскальзывать признакам будущего падения, эта христианская европейская культура. Через восемьдесят пять лет она будет ближе всего к полюсу[109] – звезда и культура. Последние изобретения этой культуры, последние открытия, пожирающие самих себя, будут сделаны. Начнётся упадок, очередь за другими культурами[110]. Не беспокойтесь за человечество, оно переживёт ещё не одну. Вы одна из жертв этого лихорадочного приближения к цели, которая никогда не будет достигнута. Наблюдайте звёзды, они утешат вас. Я прихожу сюда так часто, чтобы смотреть на звёзды. Годами описывают они над моей головой круги. Только через звёзды мы можем найти ключ [к] угасшим цивилизациям и той, расцвет которой был за двадцать семь веков до Иисуса. Тогда Дракон сидел на престоле.
«Опять лекции, – подумал Ильязд. – Я не знаю, лучше ли его миросозерцание хаджи-бабинского, но для меня это одно и то же. Роются в законах мироздания, а человека-то проглядели».
– Век, о котором вы говорите, начался с Утешителя, – наконец вставил он, пытаясь поймать тон собеседника, – а разве звёзды нас утешают?
– Нет, поэтому-то никто за ними не наблюдает, как четыре тысячи лет назад, так как век проходит под знаком вздорного утешения. Утешать, кого в чём, почему (Ильязд был доволен, ему казалось, что он попал в точку), мудрость не нуждается в утешении, а ставка на глупых – дурная ставка. Но скоро этой позорной игре будет положен предел. Ещё восемьдесят пять лет, всего восемьдесят пять лет.
– Я не знаю, правы вы или нет, я не умею делать выводов, но игра нашего века – ставка не на глупых, не на нищих и не на бедных, а на равенство, и большевики…
– Ах вот что, вам мало того, что я знаю, что вы несчастны, вы пришли сюда искать…
Но Сумасшедший внезапно замолк и повернул голову. Ильязд сперва ничего не понял, а потом стал всматриваться в глубину. Но близорукие его глаза ничего не могли различить. Его дурные уши ничего не могли уловить, кроме подкованных шагов часовых. Но через некоторое время на фоне пустыря и неба, между Министерством юстиции и мечетью Ахмета, появились какие-то тени, которые тотчас растаяли. Куда они делись, Ильязд не мог сказать, так как он был убеждён, что они не пересекли Софийской площади. «Но какое значение может быть у теней в Стамбуле», – подумал он, но тотчас вспомнил о русских в ямах, там, в том же направлении, и съёжился. Однако сколь ни стало ему вдруг не по себе, упустить такого случая он не мог. И повернувшись к Сумасшедшему, он рассёк тишину:
– Оказывается, вы наблюдаете не только за звёздами, Озилио. – Ему показалось, что Сумасшедший бросается на него, и Ильязд, поднявшись с земли, отскочил. Но Озилио только зарычал, точно раненый, и не двинулся. Через минуту голосом таким же ровным и равнодушным он произнёс:
– Хотя вы русский, но не с ними. Незачем испытывать мой ум.
Рассвет приближался, и Ильязд уже мог различать и Сумасшедшего, и его позу. Он уже не смотрел на небо (да на нём, впрочем, и не было звёзд), а упёрши глаза в землю, словно о чём-то напряжённо думал.
– Я не ищу больше утешения, – сказал Ильязд, – разговор с вами ободрил меня. Но скажите мне, что вы знаете про этих моих соотечественников.
Прошло немало времени, пока вопрос, подобно начальному, достиг до Озилио. Он поднял голову и посмотрел на Ильязда глазами, полными нежности и неизъяснимой любви:
– Дорогой друг, что мне с вами делать, мне вас жалко, и странное дело – впервые, быть может, я испытываю подобную жалость. Но вы редкий тип бессознательного человека, который сам ничего не хочет, ничего не ищет и не бежит, но хочет, бежит и ищет, потому что этого хотят другие, потому что вас всё время на это кто-нибудь толкает. Вы медиум, понимаете, не так ли, и самый сильный из тех, которых я видел. Но тот, кто действует через вас, ведёт недобросовестную игру. Пойдёмте. – Они поднялись и направились в северные кварталы Стамбула.
Если несколько часов тому назад Ильязд вовсе ещё не думал, что его окружает тайна, и при этом не тайна вообще, то есть нечто скрытое, но завершённое, а тайна в движении, сложная история, которая должна была привести (когда – неизвестно, но несомненно привести) к развязке, и в которой он играл какую-то роль одному своему любопытству благодаря, то теперь он уже был настолько в этом уверен, что все события, совершившиеся со времени его отъезда из Батума, а может и раньше, и все события, которые произойдут, укладывались, должны были укладываться в рамку этой истории, которая, согласно утверждению Суварова, должна была произойти сама собой, и Ильязд, играя в каковой роль, в то же время ничего не должен был сделать, чтобы играть роль, словом, самовнушение невероятное, которое страховало Ильязда от всякого удивления, но, отнимая у него всякую волю сопротивления, делало его совершенно безоружным перед событиями. Он уже бодрствовал в течение сорока почти часов, столкнулся за этот срок со столькими разными явлениями (это только выводы, говорил он, я покажу ему, что умею делать выводы, повторял он, задетый за живое), а между тем надо было держаться как следует, так как неизвестно было вовсе, удастся ли ему проспать будущую ночь. Он решил, что, поставив вопрос Озилио о русских в ямах, он сделал всё, что должен был пока сделать, надо было теперь выжидать, и поэтому всю дорогу эта изумительная пара, измождённый мудрец в засаленном колпаке и рваной, безумно длинной, волочившейся, подымая пыль, рясе, не перестававший казнить левой рукой бородку, и молодой человек в смокинге, без пальто и без шляпы, несмотря на ноябрь, точно вывалявшийся в пыли, вертевший головой по сторонам, точно нанятый, сделала свой полуторачасовой путь молча. На площади Баязида к ним слетелись стаями голуби, Озилио вытащил из-под рясы огромный, неизвестно где помещавшийся кусок хлеба и быстрыми-быстрыми движениями правой руки искрошил половину, после чего, подождав, когда голуби кончили хлеб, сделал широкий жест, и птицы вернулись за ограду мечети. То же повторилось у мечети Завоевателя. Глядя на этого Орфея мимики, Ильязд думал, что, кроме русских, у него можно вытянуть чёрт знает сколько разных сведений, и уже сожалел, что их встреча не была для него лишена корыстного любопытства.
Они оставили справа мечеть Селима и вскоре упёрлись в городскую стену. Обстановка внезапно изменилась – открытые окна домов, женщины в окнах без покрывал, дети, играющие посередине улицы, грязь, крики, развешенное вдоль домов бельё, обыватели, рассевшиеся на крылечках, лузгая семечки, – еврейский квартал. Спустившись вплоть до развалины Багрянородного[111], Озилио, появление которого заставляло женщин с криками «Учитель, учитель!» или даже «пророк!» бросаться к нему, касаясь (пыльного его) подола руками, так что Ильязд был даже оттеснён, они миновали развалину[112], которая служила теперь сушилкой для (рваного) белья, – Озилио отпустил женщин таким же жестом, каким отпускал голубей, и, войдя в садик какой-то лачуги, придержал калитку, пока Ильязд не прошёл первым, и затем, открыв дверь домика, протолкнул Ильязда вперёд. Комната была не слишком грязной, хотя пыль, по общевосточному обычаю, по-видимому, никогда не сметалась, и ничем не была замечательна, кроме небольшого стола, на котором лежало несколько свитков, нескольких ящиков из-под бакалеи, обилия карт звёздного неба, которые мало чем походили на карты, а были, скорее, картинками с изображением самых различных существ и растений[113] в самых фантастических позах, и множества чертежей, среди которых выделялась теорема Ибн Эзры[114], чертежей явно геометрического характера, нескольких плетёных табуретов, по-видимому, игравших роль столиков, так как Озилио уселся прямо на пол.
– Я слишком разговорчив сегодня, – начал он, пригласив гостя сесть на табурет, – и веду себя совершенно как женщина. Но мне необходимо объяснить отцовскую нежность, которую я к вам питаю, чтобы уяснить её самому себе. Скажите, мало ли я видел смертей, мало ли событий прошло передо мной так на Софийской площади? Разве хотя бы одно из них не было мне ясно, разве звёзды не предсказали их заранее, и разве хоть раз моё сердце сжалось от сознания, что хотя звёзды и не насилуют, а только влияют, мало кто устоит против такого влияния? Ах, я старею, признаюсь вам в этом, так как слабость проникла в меня. Так как я вас жалею, видя вашу погибель.
– Учитель, – произнёс Ильязд, не решаясь сказать просто «Озилио» и думая, что на площади, быть может, позволил себе ужасающую фамильярность, – вы хотите сказать, что мне грозит гибель от этих русских?
– Я боюсь, что ты проглядел их секрет, мне подобно.
– Я никакого секрета их ещё не знаю, я обнаружил только позапрошлой ночью, что они выбрали для жилищ клоаки, в которых не будут жить даже цыгане. Это меня обидело за них, за себя, и только. Но, значит, в этом есть секрет, они там не только для того, чтобы только жить, скажите…
Лицо Озилио осветилось жалкой улыбкой.
– Это хорошо, что ты ничего не знаешь, это не отвратит твоей судьбы, но ты умрёшь так же бессознательно, как прожил жизнь.
– Учитель, скажите, в чём дело.
– Нет, ты, конечно, будешь вертеться вокруг, пока не разнюхаешь, но я не хочу быть причиной твоей гибели.
И странное дело, по безжизненной восковой щеке Сумасшедшего пробежала дрожь.
Ильязд смотрел, опешив и ничего не понимая. Что это была за невероятная чепуха? Нежность и отцовская любовь, внезапная дрожь за его судьбу, предсказание смерти и прочее. Как ни было всё это странно, не стоило выходить из границ. Озилио может быть отличным звездочётом, может предсказывать судьбу и определять прошлое по руке, лицу, голосу, и кто знает, по чему ещё, но Ильязд ни во что это никогда не верил, и теперь, убеждённый, что все знания Озилио сводятся к слежке (я сам могу следить, а выводы-то где, выводы, моя гибель), готов был уйти и отправиться домой спать (начинало клонить ко сну), если бы не этот тревожный припадок чувствительности у пророка, мудреца, святого, учителя, сумасшедшего и чёрт знает кого. Положительно, этого мудреца приходилось утешать. И Ильязд готов бы обратиться к нему со словами утешения, когда вдруг, сам не зная почему, вытащил из кармана покрытую каракулями бумажку, оборонённую Синейшиной, и протянул её Озилио.
Тот только прикоснулся к ней и отбросил её как ужаленный, даже не поглядев.
– Как вы не понимаете, – почти закричал он, – ах, вы никогда не научитесь делать выводы, что эта записка представляет какой-то шифр, который я бы помог вам расшифровать, но что эта записка была оборонена нарочно, чтобы вы её подобрали? Где, в каких условиях вы её подобрали, подумайте как следует, разве можно так жить, даже не по-птичьи, птицы и те делают выводы и знают заранее, когда я приду их кормить.
Ильязд поразмыслил и пришёл к убеждению, что Озилио не мог ошибаться. Связь Суварова с Синейшиной была несомненна, Синейшина исчез в магазине Суварова, потому Суваров его покинул, и так далее. Суваров ли был орудием Синейшины или наоборот, но несомненно, что тот или другой втягивали его в игру. Ну что же, тем лучше, как можно скорей.
– Если вы не хотите мне сказать, в чём тайна русских в ямах, то расшифруйте эту записку.
– Подумайте, милый друг, я вам хочу сообщить много более важных вещей, чем какая-то записка. Посмотрите на эти стены, неужели это не занимательнее этого клочка бумаги, которым вам хотят морочить голову.
– Это, конечно, занимательнее с точки зрения вечности.
– Так вот, я вам кое-что объясню. Вы располагаете основными сведениями из астрономии?