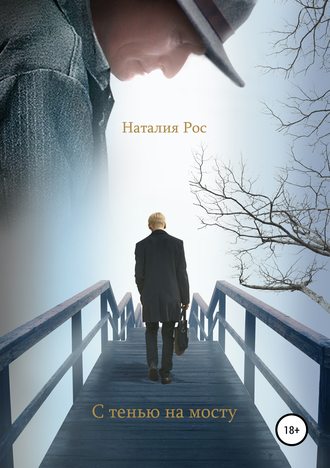 полная версия
полная версияС тенью на мосту
После обеда, посмотрев в зеркало, я увидел лицо, которое очень метко описал Марк – старая подошва башмака, ни больше и ни меньше. Нужно было проветриться. Я надел фуражку, пальто, накинул шарф и вышел на улицу, которая вся была устелена мелкими колючими снежинками, хотя был только конец октября.
Мимо меня, склонившись, закрываясь от порыва ветра, прошла девушка в черной маленькой шляпке и сером пальто, которое было ей велико и выглядело поношенным. Она была похожа на маленькую птицу, забывшую улететь осенью на юг, и теперь ей приходилось прятаться в огромном несуразном шалаше, чтобы не замерзнуть. Она шла, закрывая голую шею от летящих навстречу снежинок воротником пальто, придерживая его рукой в тонкой перчатке. «Наверно, ей холодно», – отчего-то подумал я и обернулся, посмотрев ей вслед. Она заходила в здание, где располагалась редакция.
Еще немного подышав свежим воздухом и понаблюдав за спешащими людьми, я решил сходить на соседнюю улицу, где прятался небольшой крикливый базар. Там продавалось все, что можно было только пожелать, от свежих фруктов и овощей до хламья и древних вещей, которые могли понадобиться только сумасшедшему. Я купил у одной крупной, похожей на медведя, торговки пару яблок и мандарин и пошел по укутанному снегом маленькому переулку, выходящему на большой проспект.
Вокруг была жизнь. Я, не скрывая интереса, засматривался на прохожих: мне так интересно вдруг стало какие у них лица и о чем они думают. Марк был прав, повсюду была жизнь, а я существовал в своем бумажно-книжном мире, как случайно проползавшее насекомое, которое раздавили, когда захлопывали книгу, и теперь оно осталось там навсегда в виде засохшего отпечатка и тонкой высушенной хрустящей оболочки.
Проходя мимо большого деревянного стенда, обклеенного множеством различных объявлений, обрывков старых бумажек, газет, афиш и плакатов, мое зрение зацепилось за какие-то буквы, которые, как свет маяка, вырвали меня из пучины размышлений. Я воротился к стенду и замер – большими красными буквами на одном из плакатов было напечатано: «ЦИРК», посредине был нарисован могучий мужчина в красно-белых полосатых штанах и жилетке, который с ловкостью кидал в воздух огромные гири, а внизу курсивом гласило: «Впервые в нашем городе представление невероятного силача Джонни!».
– Силач Джонни! – воскликнул я от радости, и женщина с девочкой, стоявшие рядом и также рассматривавшие стенд, испуганно отодвинулись от меня. – Вы понимаете, это силач Джонни! Это мой друг, он выступает в цирке! – пояснил я им, и женщина с девочкой, опасливо оглядываясь, поспешили уйти.
Я, припрыгивая от радости, побежал к киоску, где продавали билеты.
– Билет в цирк, пожалуйста, – сказал я, улыбаясь во весь рот, и протянул в окошко деньги. Женщина, закутанная в пуховые платки, грозно и недоверчиво посмотрела на мое счастливое лицо, будто я был похож на голодранца, намеревавшегося ее обокрасть.
– Один? – громогласно спросила она и еще более грозно посмотрела, я бы сказал даже угрожающе.
– Да один.
– И что же ты один пойдешь?
– Да, один пойду, – неуверенно ответил я и втянул шею.
– И почему один?
– Потому что я один и, следовательно, мне нужен один билет, – я уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
– Почему ты один? – женщина никак не собиралась отдавать мне билет.
– Простите, дайте мне уже билет и я пойду. Это какой-то нелепый разговор.
– Не дам тебе билет, – громыхнула она, и я, ошеломленный, уставился на нее, а тетка нагло продолжила взирать на меня.
– Тогда отдайте деньги и я пойду.
– Не отдам. Или покупаешь два билета или уходишь.
Я чуть не подавился слюной.
– Извините, это уже переходит все границы. Дайте мне билет или верните мне деньги, а то я…
– Что ты? – тетка смотрела на меня, как на пойманную муху, бесполезно трепыхавшую крыльями. – Под новый год берешь один билет! Где твоя жалость к самому себе? Я сказала, бери два билета. Быстро раскупят, потом, когда понадобится второй, их уже не будет.
– Мне не понадобится второй, потому что я один, черт возьми, и давно уже один! – я вспылил: мое терпение готово было вот-вот лопнуть, я ужасно хотел просунуть руку в окошко и добраться до этой тетки, чтобы хорошенько ее отмутузить. Теперь я понимал, почему они все прятались так далеко от покупателей.
– Два или ничего! – она, держа в толстой руке два красных билета, плавно провела их возле моего лица, будто я был тигр, а она – дрессировщик с куском мяса.
– Хорошо! Давайте два этих дурацких билета! – не выдержал я и протолкнул ей деньги за второй билет.
Тетка вдруг подобрела, улыбнулась и добродушным зычным голосом сказала:
– Девушку пригласи, балбес!
Когда я, взвинченный и разгоряченный от неожиданного столкновения с наглостью, вернулся в редакцию, там стоял хохот. «Неужели все еще обсуждают меня и Дину Сало?» – подумал я и решил, что пора всем устроить проверку материалов, а бездельникам сделать выговор. Но тут ко мне по-панибратски подскочил Замейко и, ковыряясь в зубах зубочисткой, выдал:
– Тут такое было, ты не представляешь! Пока тебя не было, тут одна сумасшедшая приходила, всех на уши подняла. Загляни в кабинет к мухе Цеце, там все со смеху катаются от того, как Цеце рвала и метала!
Мухой Цеце называли заведующую детским разделом в нашем журнале. Это была женщина в возрасте, сухощавая, с довольно непростым консервативным характером, носила очки в толстой роговой оправе и строгие черные платья. На самом деле ее звали Цецилия Львовна, но между собой мы обычно ее звали мухой Цеце. У нас с ней не очень хорошие были отношения. Она считала, что я слишком молод и глуп, чтобы управлять журналом, которому она посвятила всю свою жизнь, и конечно, по ее мнению, это было совсем не солидно, чтобы я командовал такой взрослой и опытной женщиной, как она. Поэтому нами негласно было решено, что я не вмешиваюсь в ее раздел и полностью доверяю ее опыту и компетенции. И это меня, в принципе, устраивало, так как мне меньше всего хотелось с ней сталкиваться, ибо всякое общение с ней меня вводило в некий ступор, где я был несуразным ребенком, а она воспитателем, который мог спокойно треснуть указкой по моей голове.
– Пожалуй, в другой раз загляну, – сказал я. – Хватит болтаться без дела, Замейко, займись делом, ты уже и так просрочил материал.
– Хорошо, хорошо, сейчас приступим! – воскликнул он, но продолжил рассказывать: – Когда ты ушел, сюда зашла босячка, такая вроде ничего, мелкая. Спросила, где отдел детской редакции, ну мы ей показали, и там началось. Сначала было тихо, а потом слышим, муха Цеце визжит, а эта босячка, что-то пытается ей доказать. Потом Цеце вылетает к нам, размахивая листком бумаги, и зачитывает нам стишок той барышни. Стишок-то несуразный, похожий на бред сумасшедшего, но мы больше не из-за него начали смеяться, а из-за Цеце. Она превзошла саму себя, так унизила эту босячку, что, ей-богу, мне даже жаль ее стало. Эх, комедия настоящая, и в цирк не ходи. Представление было что надо, жаль ты пропустил.
– И что же девушка? – спросил я.
– Босячка? А она сказала, что мы все болваны и убежала.
Нахмурившись от всей этой истории, я направился снова в свой, пропитанный табачным дымом, кабинет и приступил за работу.
2
В пятницу я освободился пораньше, чтобы сходить в кино с Диной Сало, которая уже ждала меня, принарядившись, на первом этаже в вестибюле. Она завила волосы «барашком» и накрасила губы жирным слоем ярко-красной помады. По дороге в кино она щебетала и задорно смеялась, выпуская на меня пары чесночного аромата. Во время просмотра фильма она все время что-то спрашивала, нарочито ахала и закрывала глаза от страха, пытаясь теснее прижаться ко мне, что, вкупе с ее невыносимым запахом кислого пота и чеснока, ужасно мешало сосредоточиться на фильме, который и так оказался, на мой взгляд, слишком шумным, напыщенным и суматошным.
Домой я провожал ее ускоренным шагом: мне хотелось быстрее избавиться от чувства тошноты, преследующего меня на протяжении всего вечера. Дина, не поспевая за моим широким шагом, суетливо перебирала маленькими пухлыми ножками, обутыми в полусапожки на меху, и ежеминутно вздыхала, показывая, что она не этого ожидала от нашего вечера. Когда, наконец, я попрощался с ней, я с облегчением перевел дух: тошнота исчезла, и я теперь мог наслаждаться морозным, скрипучим воздухом, в котором с каждой секундой все сильнее начинали кружиться новые снежинки.
По пути домой, я решил заглянуть в редакцию, чтобы взять на выходную вычитку несколько материалов, которые к понедельнику должны были быть подготовленными. На втором этаже слабо горел свет.
– Гевор, это вы? – спросил я, заглядывая в редакцию.
– Ну, а кто же еще? – добродушно ответил пожилой мужчина, который у нас исполнял обязанности дворника, уборщика, истопника, мусорщика, вахтера и охранника. – Я думал, вы уже освободились, и никто не придет.
– Да я по делу забежал. А вы что?
– Да вот, как всегда мусор выношу. Глядите, сколько от нашей несравненной Цецилии Львовны выгреб, – он показал полное ведро бумаги.
– Нашли что-то интересное? – спросил я, зная, что мужчина любил отыскивать в мусорном ведре выброшенные рисунки иллюстраторов, которые по тем или иным причинам не устраивали Цецилию Львовну, а потом он распрямлял их и вывешивал на стене своей вахтерской каморки, которая была его постоянным жилищем.
– Нашел, нашел, – заулыбался он, показывая отсутствие переднего зуба. – Вот, гусеница верхом на слоне едет. И чем она не устроила Цецилию? Ничего она не понимает в художестве, потеряла дух детства. Вот я, был бы помоложе, пошел бы сейчас снеговика лепить, погода-то чудесная. Хотя, что мне сейчас мешает? Вот сейчас управлюсь, соберу мусор, да и пойду. Ведро найдем, палки, угли, да только морковки нет для носа…
– У меня есть мандарин. Подойдет? – спросил я, выглядывая из своего кабинета.
– А то ж, а то ж пойдет! – обрадовался он. – На завтра детвора как раз стащит и съест. Так… сейчас еще посмотрю, – кряхтел он, копошась над ведром, – а то вдруг что пропустил… Эге, что это тут. Какой-то стишок-страшилка. Кхм… эге, забавный стишок. А ну-ка Ларий, послушайте…
Однажды придет старичок,
И предложит тебе желанье.
Если сядешь на его крючок,
Жизнь твоя станет страданьем.
Он принесет тебе подарок,
И попросится в твой дом.
Но не верь ему, хоть он и жалок,
А гони его кнутом.
Он обманщик и не честный –
Не верь в доброту его.
Твоя семья исчезнет безызвестно,
И дом останется его.
Старик – мошенник и обманщик,
Приходит к тринадцати лет,
Не будь наивным мальчиком,
Иначе он съест тебя на обед.
Будь счастливым и веселым,
Не завися от своих бед,
А иначе призовешь ты
К себе похитителя лет.
Как только Гевор закончил читать, меня поразил ступор, а потом мелкая противная дрожь охватила мои руки и губы, я почувствовал, как они посинели от холода, хотя в помещении было тепло. Я попросил взглянуть на листок. Еще раз перечитал четверостишия, написанные ровным, красивым почерком. Никакой подписи не было. Аккуратно, дрожащими руками, я сложил его и засунул во внутренний карман пиджака.
– Я заберу его.
– Понравился стишок? – спросил Гевор и присмотрелся. – Эге, да вы весь дрожите. Печь вроде еще топится. Может, приболели?
– Нет-нет. Все хорошо, я не заболел. Просто взволнован, – словно во сне я начал шагать по сумрачной редакции от одного пустого стола к другому. Мысли кружились в точь-в-точь как снег на улице.
– Гевор! – крикнул я, и мужчина от неожиданности уронил железный совок. – Мы сейчас вдвоем быстро справляемся с вашими делами и идем на улицу. Будем лепить снеговика!
Дворник почесал недоуменно голову, а потом засмеялся, как ребенок.
– Вот это другое дело! Идемте, идемте!
Все выходные я брался за чтение материала, но постоянно ловил себя на мысли, что думаю о той таинственной девушке, которую я видел на улице, возле входа в редакцию, о девушке, которая принесла это злосчастное стихотворение. И чем больше я о ней думал, тем сильнее мне казалось, что это могла быть та самая затерянная девочка из прошлого. Девочка из Птичьей долины, таинственно исчезнувшая в холодном декабре.
На следующий день, рано утром, я бежал на работу в чудесном настроении, перепрыгивал через сугробы нечищеных тротуаров, и снег недовольно скрипел и искрился на морозном воздухе. В кармане пиджака у меня был листок, который грел мое сердце. Я намеревался разыскать, во что бы ни стало, девушку, приходившую в редакцию. А то, что это дорого мне обойдется, я не сомневался, так как мне придется нарушить негласное правило – старайся сохранять хрупкий мир и никогда не суйся в раздел мухи Цеце.
Я улыбнулся, увидев снеговика, слепленного мной и Гевором, он еще стоял целым и невредимым, потеряв только нос. Как всегда придя первым в редакцию, я зашел в свой кабинет и закурил сигарету, нетерпеливо поглядывая в окно, в ожидании появления Цецилии Львовны. Мысль о ней будоражила мою кровь, как будоражит индейца, ступающего на тропу войны. Вскоре я увидел шагающее величественной походкой длинное черное каракулевое пальто и огромную шапку из бобрового меха: Цецилия заходила в здание. Я, выждав необходимое время и напустив на себя непринужденный, деловой вид, направился в ее раздел.
–Доброе утро, Цецилия Львовна, – поздоровался я. – Как продвигаются ваши дела? Мы ведь скоро в печать сдаемся, успеваете?
Она, окинув меня взглядом, в котором непонятно что больше преобладало, презрение или высокомерие, хмыкнула и с нисхождением ответила:
– Доброе утро, Иларий Родиевич. Очень мило с вашей стороны, что вы интересуетесь. Если вы намекаете на мой не юношеский возраст, то смею вас заверить, у меня память лучше, чем у всей вашей коллегии. Все подготовленное для публикации, как и всегда, я подам вовремя.
Она принялась разбирать бумаги, показывая всем видом, что разговор окончен. Редакция начала постепенно наполняться людьми.
– Вы что-то еще хотите? – она припустила очки, и я увидел ее бесцветные холодные глаза, которые втыкали в меня крошечные ледяные кинжальчики.
– Да, хочу. Позвольте спросить вот про это, – я достал из кармана листок со стихотворением и протянул ей. – Это принесла девушка, которая заходила в понедельник?
– Я же выкинула это в мусорное ведро, – ответила она, делая брезгливый акцент на «это». – Вы что, копались в нем?
– Да, то есть нет. Никто не копался в нем, листок случайно выпал, когда выносили мусор, и я заметил его, – мне не хотелось говорить, что его нашел Гевор, так как она наверняка бы разозлилась и лишила бы старика его единственной радости – забирать себе рисунки из мусорного ведра. – Не в этом суть… Не могли бы вы сказать, кем представилась эта девушка. Может она сказала как ее зовут, назвала фамилию или кем работает. В общем, за любую информацию, которую вы сообщите, я был бы вам чрезвычайно благодарен.
– Странно, что вас так заинтересовала эта информация, что вы даже потрудились порыться в моем мусорном ведре, – хмыкнула она с еще большим презрением. – И с чего это я вам должна говорить, даже если и знаю? Я ведь в ваш отдел не лезу.
Я глубоко вздохнул, понимая, что она уже объявила мне войну, и битвы не миновать.
– Цецилия Львовна, я не рылся в вашем ведре, поверьте на слово, и я всего лишь спросил, могли бы вы рассказать что-нибудь об этой посетительнице. И вроде моя просьба довольно проста. Пока проста, но она может и усложниться.
– Вы угрожаете мне? – ее сухие тонкие губы скривились в презрительной усмешке.
– Ох, что вы! Угрожать вам? Нет, угрозы это не для меня. Я пробую все решить миром. Ведь мир так важен для нас, да?
– Мне все равно, что вы хотите всем этим сказать, но об этой сумасшедшей я, хоть и знаю совсем немного, ничего не скажу, потому что, во-первых, вас это не должно волновать, а во-вторых, если вас все же это волнует, то здесь встает вопрос о вашей компетенции.
Сделав еще один глубокий вздох, я положил листок на ее стол и звонко хлопнул по нему рукой так, что она вздрогнула.
– Вы это включите в свой раздел.
– Что?! – громко вскрикнула она, и все присутствующие разом обратили на нас внимание и навострили уши в предвкушении хлеба и зрелищ.
– Я говорю, вы включите это стихотворение в свой раздел.
– С каких это пор вы мной командуете? Я не позволю вмешиваться в мою работу!
– Вообще-то, по правилам, я должен вмешиваться в вашу работу, если вы не забыли, я главный редактор. И я сохранял нейтралитет только из-за моего глубочайшего уважения к вам. Но сейчас, мне кажется, наступила пора вмешаться. Хотя я очень этого не хотел, поверьте мне.
Кто-то тихо присвистнул, кажется, это был Замейко.
– Я не позволю, – процедила она, нервно дрожа, – я работаю здесь пятьдесят лет! Мой раздел читают миллионы детей и еще до этого миллионы детей на нем выросли! Я лучше всех знаю, что нужно публиковать. То что вы подсовываете мне, написано больным человеком. Это просто непостижимо такое отдавать на печать. Тут написано: «Гнать кнутом старика». Что это значит? Что за каннибализм тут происходит: «Иначе он съест тебя на обед?». Какой крючок, какой еще подарок на тринадцать лет? Здесь сплошные пугающие метафоры со скрытой пропагандой неповиновения, неуважения к старшим и призывы к убийствам!
– Знаете в чем ваша проблема, Цецилия Львовна? В том, что вы сидите глубоко в консервной банке. Вас читали миллионы, но сейчас, увы, ваш детский раздел невероятно скучен и однообразен. Вы публикуете только устаревший материал с устаревшим мировоззрением, а ведь мы движемся вперед. Жизнь идет, дети растут, у них появляются новые интересы, и нас окружают конкуренты. То, что вы подаете, это все серость и скука, как ваше нафталиновое пальто изъеденное молью. Вы нещадно критикуете новых молодых авторов, вы разносите и бракуете рисунки талантливых художников, которые предлагают новое виденье мира, новые стили, но вы по-прежнему цепляетесь за старое. Может пора поговорить о вашей компетентности в данном деле? И кстати, вы говорите, что работаете здесь пятьдесят лет, это, позвольте полюбопытствовать, вам было десять лет, когда вы приступили к работе?
В редакции повисла звенящая пустота.
– Вы включаете это, – я еще раз хлопнул ладонью по листку, – в свой раздел.
Она смотрела на меня через линзы своих черепаховых очков, и мне казалось, что от ее ненависти ко мне стекла непременно должны были треснуть и разлететься на осколки, один из которых точно попал бы мне в глаз, а другой – в сердце, на поражение.
Все с замиранием сердца ждали, что она скажет, потому что от этого зависело, сохранит ли она авторитет и власть, а я побегу зализывать раны от поражения всесильной мухи Цеце, или она будет позорно раздавлена молодым наглым редактором, который навсегда утвердит свой статус главного.
С каждой секундой напряжение нарастало, а Цецилия никак не могла решить, что ей делать, но тут она совершила ошибку: схватила злополучный листок и с остервенением начала рвать и крошить его, пытаясь перемолоть в муку.
Все ухнули. Я, молча, развернулся, и все, расступаясь передо мной, как море перед Моисеем, проводили меня взглядом в кабинет. Через секунду я вышел, и снова все расступились, пропуская меня теперь как Персея к Медузе. Война продолжалась.
– Вот вам еще один экземпляр, – я положил еще один листок на ее стол. – Я заботливо его перепечатал, догадываясь, что вы можете не совладать с нервами. И если вы снова захотите его порвать, то у меня на столе еще очень и очень много копий.
За спиной ахнули. Цецилия Львовна, молча, приземлилась на стул и зашелестела листами: она проиграла.
Через полчаса ко мне заглянул Марк.
– Ну, ты даешь! – воскликнул он. – Я только захожу на работу, а мне уже рассказали, что здесь произошел бой века. Почему ты не мог дождаться меня? Как мне теперь жить?
– Я надеюсь, теперь тебя это научит не опаздывать на работу.
– Да ну тебя! Никуда не денется твоя работа, а вот ты, – он сочувственно покачал головой, – ты покойник. Муха Цеце никогда не простит тебе этого. Ты не думай, что бессмертный, она еще в твою печенку вгрызется похуже собаки.
Я знал, что Марк был прав, но меня сейчас это волновало меньше всего. Я думал только о том, что потерял единственную свою возможность узнать об авторе стихотворения.
На обеденном перерыве, в столовой, ко мне, стесняясь, подошла неприметная девушка, которая занималась работой с письмами в отделе Мухи Цеце, и которую я обычно не замечал, настолько она была тихой и невзрачной. И она сказала, что случайно слышала о той девушке, которая приносила стихотворение, что ее зовут Мария, и что работает она, кажется, учительницей.
«Мария, Мария», – повторял я, словно пробуя это имя на вкус. В том, что это была та самая Мария, которую я знал, я уже и не сомневался. Оставалось только узнать, сколько учительниц по имени Мария есть в этом городе, и я думал, что точно несколько десятков будет, а даже, может быть, и сотня.
3
Мои поиски начались. Я составил список всех школ, гимназий и учебных заведений города и шаг за шагом приступил обзванивать их или приходить лично по адресу. И все время меня постигала неудача: если и была там какая-нибудь учительница по имени Мария, то она оказывалась совсем не той, которую я искал. Так, за три недели, мой список был перечеркнут полностью, а я даже и близко не узнал, где еще можно было искать девушку. Мой план по нахождению таинственной Марии провалился.
Цецилия Львовна, как я и требовал, включила стихотворение в новый выпуск журнала, и он успешно был сдан в печать, а это означало, что появилось небольшое время для себя. Поэтому следующие выходные я решил не брать работу на дом, а посвятить время своему гардеробу: нужно было обновить костюм и приобрести новые туфли, так как прежние совсем прохудились и имели такой унылый вид, что в любую минуту были готовы развалиться.
На улице заметно потеплело, и снег начал понемногу оттаивать, отчего забавно чавкал и хлюпал под ногами, норовя заглянуть под отклеивающуюся подошву и намочить носки. Таянье означало также и грязь. Грязь, которая непременно ожидала каждого. Она поселялась толстым слоем на ботинках, отлетала каплями на брюки, стремилась испачкать полы пальто и шуб, пыталась заставить поскользнуться неловких людей и с удовольствием принимала их в свои объятия. Грязь была повсюду.
Я шел в потоке людей в поисках нужной мне витрины с мужской одеждой и обувью. Вдруг кто-то легонько, но настойчиво дернул меня за пальто, и я обернулся. Мальчишка лет десяти, с таким чумазым лицом, словно только что упал в ту самую грязь, слезливо начал просить денег.
– Дяденька, дяденька, подайте Христа рада, мамка голодная, при смерти лежит, умирает. А я совсем один-одинешенек, помру я, дяденька, видит бог, помру, мочи моей нет. Есть так хочется, что кишки болят, поверьте, дяденька, так болят сильно… – хныкал мальчишка, растирая грязной рукой лицо.
Нередко я видел как мальчишки, бегая по улицам, выклянчивали деньги у прохожих, рассказывая каждый раз одинаковую историю про больную мать и «нечего есть», и редко кто им подавал, чаще их прогоняли, обзывая обманщиками и плутами. Но этот мальчик был другой, в его глазах было такое неподдельное страдание, что я, ни на секунду, не усомнился в том, что без помощи он погибнет. Я достал кошелек, мысленно посчитал, сколько у меня должно остаться, чтобы хватило на туфли и костюм, и протянул ему крупную купюру, которой должно было хватить на необходимые нужды на пару недель.
– Спасибо, спасибо вам добрый дяденька! Я буду молиться за вас! Каждый день буду молиться! – мальчишка зарыдал и вдруг бросился меня обнимать со всей теплотой, на которую, наверное, была только способна страдающая человеческая душа.
Я растрогался.
– Ну, что ты, не плачь. Купи еды и лекарства. Здесь должно хватить. Пусть твоя мама обязательно поправится, – я попытался его утешить, и мальчишка, еще немного всплакнув, попрощался и удалился.
Когда я собрался идти дальше, растроганный столь жалостливой встречей, что-то заставило меня похлопать по левому карману пальто. Там было пусто. Я сунул в карман руку, но кошелька не обнаружил.
– Стой! – закричал я улепетывающему со всех ног мальчишке. Тот обернулся на мой возглас и показал мне язык. – Ах ты подлец! Он украл у меня кошелек! – крикнул я от досады, но люди с безразличием посмотрели на меня, и я ринулся в погоню.
Как часто я наблюдал такую картину: некий прилично одетый и степенный человек гонится за пронырливой шпаной, стащившей у него деньги. И как часто я думал, что тот человек неудачник и сам виноват, раз позволил себя так глупо облапошить. Но на это раз я сам был в числе тех неудачников, и люди смотрели с усмешкой, как я скользил по грязному снегу, пытаясь догнать юркого мошенника.

