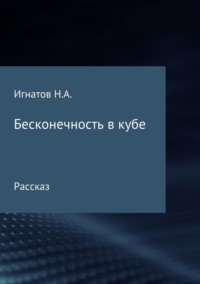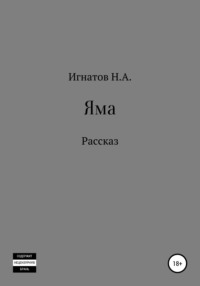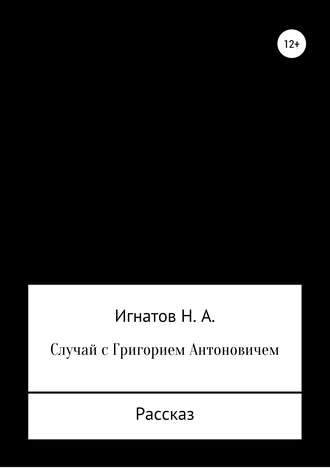 полная версия
полная версияСлучай с Григорием Антоновичем

Григорий Антонович Жданов начал лысеть давно, когда ему еще не было и тридцати. Гены сказались, а может экология, точно неизвестно. Сейчас, в его сорок четыре, он был совсем плешив, и только седоватой, почти ровной окантовкой, редели по бокам черепа остатки былой шевелюры. За многие годы у него даже выработалась чуть обезьянья привычка тереть ладонью плешь во время сильного волнения. Было даже похоже, что он в такие моменты старательно полирует и без того блестящую до бликов свою макушку. Сегодня, не смотря на вечер пятницы, сидел Григорий Антонович на кухне, над рабочими бумагами и тер лысину. А все оттого, что получил днем на работе втык от начальника (и, получил-то по делу) за очевидные ошибки в расчете последнего заказа товара на склад.
Работа логиста – ответственное дело, тут ошибаться никак нельзя, тем паче, когда заявку составляешь аж на неделю торговли! Многомиллионные обороты с прямых продаж, прибыль, контроль рынка и прочее, важность всего этого он прекрасно осознавал. Тут ведь и формулы расчета заказа тебе в помощь, и статистика, и сезонные факторы, и еще разные, отдающие болотной гнильцой, хитрости науки товародвижения и продаж. А он возьми да накосячь! Ну циферка, сволочь закорючная, сползла куда-то, ну не заметил он! Но ведь такое впервые (почти), такое ж ведь более никогда…
Но начальник Григория Антоновича, Севастьян Кириллович, не хотел на этот раз слушать оправданий. «Вот ведь сопляк-то еще! – в сердцах ругался на руководителя горе-логист. – Лет на пятнадцать меня моложе, а как распинает! Что я ему, пацан какой-то?! Да я в торговле работал, когда он еще прыщи в школе давил». Севастьян Кириллович, который действительно был много моложе Григория Антоновича, как раз тогда уловил на лице отчитываемого следы внутреннего протеста, и даже, прервав монолог, предложил ему слово. Но, как следовало ожидать, Григорий Антонович только чуть покраснел и, потерев мокрой ладонью лысину, кротко отказался говорить. Он почему-то поймал себя на мысли, что начальник заметил в нём тень раздумий именно о давлении прыщей в школе. «Почему в школе?! – корил он себя. – Дома же их все давили».
Если коротко, то кончилась экзекуция штрафом среднего размера, предупреждением – мол, в следующий раз будете искать новую работу, любезный, а также домашним заданием на выходные – подготовиться к внеочередной аттестации по профилю. Что и говорить – товара по заказу логиста Жданова Г.А. привезли во множестве именно в тех позициях, которыми и без того был забит склад торговой компании, а того, что вот-вот закончится, и который ждут не дождутся клиенты, не привезли почти вовсе. Такого позора, Григорий Антонович не испытывал давно. Впрочем, позор этот был больше показным, сам промеж себя не очень-то он и досадовал, более обижаясь на укор «самодурствующего сопляка».
Посмотрев на безучастно тикающие часы на стене, Григорий Антонович вздохнул, перевёл взгляд на бутыль с бренди, скучавшую на краю стола, и отодвинул в сторону противные бумаги с формулами. «К чертям собачим, баста! – гремел внутренний бунтарский голос в голове его. – Еще два выходных впереди, успеется! Да и что я, в самом деле, аттестацию не пройду по своим прямым обязанностям, которые уже лет двадцать как исполняю?! Пройду, конечно. Эх, вот раньше было время, раньше б какая тебе нафиг аттестация! Проще как-то было. И люди проще были, сейчас вот умные больно стали. К черту!».
Улыбнувшись своей уверенности, он зловеще потер было руки над бутылкой, и вдруг прислушался. Кажется, жена проснулась, или дочь. Кто-то топал в дальней комнате, вроде как. Нет, слава Богу, показалось. Ну-c, можно и грамм сто пропустить, пятница ж, однако. Григорий Антонович с наслаждением намахнул рюмочку и занюхал долькой лимона. Умиротворение начало овладевать им, тепло нежными волнами расходилось по всем его членам. Как, все-таки, прекрасна жизнь! До чего ж мелочны, до чего ж ничтожны все эти вопросы злобы дня, рабочие будни, какие-то бытовые склоки и прочая дребедень, сутолока, бренность. Да и сам начальник, Севастьян этот Кириллович, пацанишко, тоже – мелочь ведь! А жизнь, она ведь, она… Нить мысли, что возникла от внезапной кратковременной эйфории в гудящей голове Григория Антоновича, вдруг стала столь ослепительно яркой, что даже лопнула. И через мгновение он уже не помнил, о чем думал, и чему только что умилялся. Только эхом отзывалось в глубинах души его размытое чувство нелепой и глупой радости чему-то большому и светлому.
После второй рюмки Григорий Антонович начал набираться храбрости. Он решил – во что б это ни стало он пойдет на балкон и выкурит сигарету. Решимость его твердела с каждой секундой, а смелость в этой авантюре и вправду была нужна большая. Сердце у Григория Антоновича не на шутку пошаливало последние лет десять, так что не один раз уже за это время лежал он по этой причине в больнице. К тому же проклятое давление постоянно норовит подскочить, так что и пить-то ему вообще-то нельзя. Но кто ж из тех, кому нельзя, не выпьет, когда очень хочется. Правильно – мало кто. Курить же Григорию Антоновичу строго настрого запретил кардиолог сразу же после первого пребывания в больнице. Собственно, тогда так ему стало страшно, что он сразу же и бросил, но все-таки, очень редко, позволял себе выкурить одну-две. Естественно в полнейшей тайне ото всех, особенно от жены, Анастасии Юрьевны, Настеньки, а уж она в этом отношении была сама строгость. Григорий Антонович поставил бутыль в шкаф, сполоснул и насухо вытер рюмку, и походкой ночного воришки стал красться на балкон, выход на который, к счастью, находился в ближней от кухни комнате. Пачка сигарет лежала в заначке, в болотном сапоге, лет уже не менее двух.
Майское ночное небо изо всех сил старалось чернеть, но множество ярких и не очень звезд, да еще и месяц, колдун, играючи сводили на нет эти старания. Григорий Антонович, краем глаза скользнув по краю этого волшебства, почему-то вновь загрустил, и стал думать о работе.
Как бы ни было это удивительно и нелогично, но так часто бывает с человеком: прожил он достаточно лет разной степени паршивости, а может наоборот – лет прекрасных, и столько всего важного, значительного в его жизни случилось, что не опишешь; тут и его детские радости вперемешку с печалями, взросление, душевные боли, пубертатные переживания, осмысление мира и своего в нем места, и встреча истинной любви, и рождение детей… жизнь, как она есть, словом; а он, человек этот, возьми да начни вдруг думать о какой-нибудь аттестации или прочем вздоре, и думы эти так возвеличиваются в нем, до такой степени его всего занимают, что всё прочее, истинно важное, выбрасывают к чертям собачьим из головы, а сами там остаются царями.
Вот и с нашим Григорием Антоновичем именно так сейчас было, когда он, боязливо прислушиваясь – не проснулась ли Настенька или дочь, Катюшка, прикуривал сигарету. Ещё вчера вечером, да и сегодня утром всего его занимали важные, сплошь нужные мысли. Он придумывал, как бы удивить Катюшку на день рождения, который будет у нее совсем скоро; что подарить – неужели всё-таки новый смартфон?! Не рано ли?! У неё и старый вроде ещё пашет, да и дороговато для десяти лет-то… Хотя, сейчас дети в школе все такие модные, у многих дорогие телефоны, что же она хуже других?! Опять же – звать ли всех этих родственников, или так, в узком кругу, да только пусть подружек своих пригласит?! Размышления о дне рождения дочери упирались постоянно в мысленный тупик, где как бы стояла кирпичная стена, на которой висела табличка: «Гриша, без Насти ты всё равно ничего здесь не решишь!».
А сколько месяцев они с Геннадьичем, старинным другом, ждали рыбалку! Да всю зиму. Ждали, когда растает чёртов снег, станет тепло, и можно уже будет подёргать карасей на удочку. Дождались ведь, собирались завтра с утра. Теперь куда уж! И пусть уж теперь эта треклятая заводь на озере манит, хоть заманится пусть своей предрассветной гладью, под которой ждут сотни и тысячи голодных рыб! Нет, можно конечно было и съездить, и к этой аттестации успеть подготовиться, время позволяет, только вот настроения теперь никакого.
«Да и холодно будет наверняка, с утра-то, – вспомнив о рыбалке, думал Григорий Антонович, – к черту! Успеем ещё порыбалить, май только начался. А с работой шутить никак нельзя. Аттестация – вот что важно сейчас, чтоб этого Севастьяна Кирилловича…»
Не успев додумать, что именно поджидало начальника, Григорий Антонович вдруг дёрнулся телом, закусил губу, чтоб не вскрикнуть, и сильно затряс рукой. Оказалось, что он, весь погрузившись в свои невеселые размышления о работе и о том, как порой она мешает жить, вот уже минут пять как тупо глазел на звёздное, гипнотическое небо. Про сигарету он забыл, она вся истлела и обожгла ему палец. Покурить с первого раза ему толком не удалось, и он, снова воровато прислушиваясь, закурил вторую палочку смерти.
Сильно затянувшись, аж до покалывания в груди (всё-таки сердце-то пошаливает), Григорий Антонович снова задрал голову к испещренному древними искрами потолку планеты. Луна была сегодня яркой, почти полной, но свет звезд почти не заглушала.
Звёзды. Что в них? Он уже лет двадцать старается вовсе не смотреть на эти точки, и не замечать, что они есть, но получается это не всегда. Как магнитом его взгляд притягивается к чертовым огонькам наверху, и впадает тогда Григорий Антонович в оцепенение. Может простоять так пока шея не заноет, или пока кто-нибудь не хлопнет по спине – живой, мол, Гриша?
Он выпустил изо рта клуб табачного дыма и даже попытался пустить кольцо, прицелившись прямо на сиявший безмятежной древностью бледный диск луны. Кольца из дыма у него почти никогда не получались – стажу маловато, а в этот раз, глядите-ка, кольцо удалось. Да ещё какое! Ровное, большое, полетело оно прямо к светилу, разрастаясь, становясь плотнее. Григорий Антонович удивился кольцу, и подметил, глядя сквозь него, что было сейчас очень похоже, как если б он смотрел в ночное небо со дна колодца и видел бы только одну жирную яркую Гекатову личину.
Так и оказалось. Он чуть не вскрикнул от испуга, вовремя вспомнив про своих, спящих в доме, когда обнаружил себя не мирно курящим на балконе, а сидящим на дне неглубокого, но узкого колодца. Сверху, заполнив почти весь колодезный диаметр, глядела с укором на Григория Антоновича луна. Больное сердце его внезапно дало о себе знать, видимо выкурил-то многовато, а ему и совсем ведь нельзя. Закололо слева в груди несильно, но протяжно. Григорий Антонович зажмурился и наклонил голову, успев заметить зеленоватую слизь на стенках. Дыхание его участилось, а на горячем лбу выступили крупные капли. «Вот и галлюцинации пошли, – панически вздыбливались мысли в пульсирующем мозгу. – Вот тебе и сердечный приступ! Хана, Гриша! Говорили же – не кури, дубина, не пей! Нельзя тебе!».
Чудилось ему, что и не луну это он видит из колодца, а тот самый свет в конце тоннеля, о котором так много болтают. «Помираю… эх, Настенька рассердится» – пронеслось в голове перед тем, как боль вдруг прошла. Свет луны вовсе не собирался становиться предтечей панихиды и горестных лиц родственников, друзей (Геннадьича, собственно) и сослуживцев «ушедшего в расцвете сил» – как сказали бы о нем, Григория Антоновича. Бледный диск просто начал тускнеть и обретать черты лица. И лица, сказать по правде, до боли знакомого. Большой горбатый нос, тусклые, видавшие всякое, глаза, толстая нижняя губа, вечно в не по возрасту яркой помаде, морщины, морщины, опять морщины, и пуделевые неопрятные седые кудряшки. Точно, Ильинична! Это бухгалтерша с работы, довольно вредная пожилая женщина, у которой всегда плохо пахло изо рта, и которая постоянно гнусаво бормочет себе под нос, когда водит ногтем по цифрам в ведомостях. Ильинична… Но как? И какого хрена?
Лицо её было прикрыто капюшоном темного цвета. Она стояла в каком-то черном (уж не кожаном ли?!) плаще на балконе рядом с обомлевшим Григорием Антоновичем и глядела в небо.
– Давно скучаешь по ним? – спросила она.
Григорий Антонович так вздрогнул, что пепел слетел с сигареты. Седоватая окантовка на его голове буквально зашевелилась, до того ему стало жутко. Голос был явно не Ильиничны, да и не она это была, разве похожа немного. Григорий Антонович почувствовал, что дрожит. В его оцепеневшем мозгу быстренько проносились панические мысли, вроде: «…сбежать! Грабители! Мне бы хоть нож какой… Чем же я?! Как же? А если б и нож был, чего бы я?! Ничего…».
Справа, где обозначилась внезапная фигура, повеяло теплом, и на душе его стало чуть спокойнее. Григорий Антонович закрыл глаза и досчитал до пяти, в надежде, что видение исчезнет. Открыв их снова, он чуть не вскрикнул – теперь справа от него располагался силуэт из чистого пламени. Сердце несчастного логиста снова ушло в пятки, он опять сильно зажмурился на несколько секунд. Мысль о пришедшей смерти вновь лихо пронеслась в голове, запряженная в карету, в которой восседали все его скудные представления о вестниках гибели, демонах и прочей мистической нечисти, что так или иначе имеет отношение к трагическому концу. Эхом за каретой пролетело даже невесть откуда когда-то почерпнутое «Азраил».
Открыв глаза, Григорий Антонович обнаружил, что фигура по-прежнему стояла рядом, только теперь никаким пламенем она объята не была, а облачена была банально в длинный плащ, и с Ильиничной действительно сходства теперь имела ничтожно мало. Страх куда-то улетучился, дрожь прошла, сердце больше не ныло. Григорий Антонович окончательно уверился, что умирает, и это придавало ему твёрдости в возможном диалоге с таинственным посланником по его душу.
Кольцо дыма, пущенное им в луну, так и висело в воздухе; всё застыло вокруг, и само время остановилось. Наверное – чтобы не мешать Грише спокойно помереть.
– Давно скучаешь по ним? – спросила фигура как будто в первый раз.
– Да всю жизнь. Покоя не дают, проклятые. Как засмотришься, так и глаз отвести не можно, – отвечал Григорий Антонович спокойным голосом, снова подняв голову.
Он провалился в мягкую липкую тьму, и ему казалось, что он просто сейчас видит сон, в котором на балконе старенькой сталинки беседуют две пылающие огнём фигуры. И беседа эта происходит без посредства слов, фигуры просто чуть касаются друг друга тонкими протуберанцами. Однако Григорий Антонович слова, всё же, слышал.
– Ты узнал меня, Мьорр?
– Узнал. Ты – Кдахна, командир четвертого отряда Воителей Гнева. Постой, как ты назвала меня? Мьорр? Как давно я позабыл это имя…
– Немудрено, Могучий. Новая жизнь, новый мир…
– Расскажи, что произошло. Ничего почти не помню с последней битвы на том спутнике…на Галосе. Почему я здесь? И где это мы?
Фигура почему-то не спешила отвечать на вопрос Григория Антоновича, который, как выяснилось, был по совместительству еще и неким Мьорром. На него будто силилось снизойти благодатное озарение, отвергая все тревоги его жизни, все вопросы и нелепые мысли.
«Значит, не умер, всё-таки», – подумал он и повернул голову к Кдахне. Она отвела взгляд от неба и тоже посмотрела на Мьорра. Всё стало на свои места. Кдахна Разящая явилась к старому товарищу по оружию и остановила течение времени. Точнее, она извлекла из этого течения их обоих, чтобы спокойно побеседовать.
Фигуры лобызали друг друга тонкими, длинными языками пламени, делясь воспоминаниями.
– В битве на Галосе мы одержали победу, – ответила-таки Кдахна, – рассеяв в пыль всех до единого Ангелов Тишины. Но потом нас предали, все Воители Гнева оказались в плену.
– Как это возможно?! Немыслимо. Кто предал?
– Вождь Сагутарх.
– Мерзавец! Гниль нашего рода! – глаза Григория Антоновича пылали яростью, а лысина его, казалось, исходила дымом.
– Это малые выражения, слабые, чтоб описать его сущность.
– Нет, Кдахна… Если б я столь долго не знал тебя, не поверил бы! Но ты… зачем тебе лгать?! Сагутарх… Скажи, как же он мог?!
«Вот дела… Так вот оно всё это откуда! А я же знал – неспроста всё это!» – размышлял Григорий Антонович на дне своего колодца, слушая беседу Мьорра и Кдахны, что происходила где-то наверху. Со дна он видел только гостью в черном, но там, под самым верхом колодца был кто-то еще, кто видел ее ближе и лучше. Раз на раз не приходилось – порой поглядит он вниз и узрит, что тот второй, Мьорр, сам сидит на дне, а он, Григорий то есть Антонович, пылающий огнем, стоит на своем балконе и беседует с огненной Ильиничной.
Волнение стало усиливаться, грозя перейти в настоящее расстройство. И дело было даже не столько в том, какое потрясение произвела на нашего логиста весть о том, что непобедимых Воителей Гнева предал их собственный командир, Верховный вождь, оплот чести и величия, а в том, скорее, как сильно накурено на балконе. «Это ж ужас, – принюхиваясь, думал Григорий Антонович, – сейчас Настенька проснётся, учует ведь, вот мне влетит!».
Голос Кдахны казался тягучим, неровным и низким. Сам себе удивляясь, Григорий Антонович понимал всё, о чём она вела речь, вспоминая невероятные вещи из чего-то далёкого и невозможного. Он вспоминал и свои сны, что с детства не давали толком высыпаться. Сны о другой жизни. Он каждый раз забывал детали грёз по пробуждении, зная только в общих чертах, что снилась какая-то немыслимая ерунда. А теперь всё вспомнились сразу, в деталях. И оказалось, что вовсе это были не сны, а воспоминания. Оказалось, что он прекрасно помнил Тысячелетнюю войну, да так, как если б сам в ней участвовал. Непрекращающийся много поколений конфликт между его расой – Сиянием Звёздной пыли и извечным врагом – Радужным Ковчегом.
Сияние – вспоминал Гриша-Мьорр – союз свободных племен, раскинувшийся на множество звёздных систем; Ковчег – агрессивная раса биомеханических симбионтов, жаждущая отнять у Сияния все миры и поработить всех их жителей. Песня, в общем старая и до боли знакомая. Ковчегом они зовутся потому как их главный мир – это колоссальных размеров корабль-планета, с которой происходит координация вторжений и военной агрессии. А ведь начиналось у них всё с попыток спасти жизнь от полного исчезновения, ограждая её от внешних опасностей, таких, как например, болезни или голод. Постепенно к этому процессу всё активнее приобщались высокие технологии, и кончилось тем, что была выработана тотальная концепция выживания: все живые организмы (как правило – разумные) подлежат заключению в специальные блоки-скафандры, нейтрализующие любые угрозы извне. Так разошлись они со временем на этом поприще, до того эта концепция стала определяющей, что любые иные подходы к жизни предстали для них враждебным явлением. Теперь вот разодевают без разбора целые народы и племена в эти механические оболочки, предоставляя таким образом «защиту», нуждается ли кто в ней либо нет – без разницы. Естественно, существа, подвергнутые такой «защите» теряют собственную волю, взамен обретая новую – волю Радужного Ковчега.
Григорий Антонович даже немного напрягся, вспоминая детали конфликта с этими лютыми деятелями. Он, ко всему прочему, хорошо теперь помнил и себя; помнил, что он сам, и другие Воители Гнева – величайшие воины во вселенной. Их мощи нет предела, они сами – оружие, а их доспехи почти неуязвимы. Воители Гнева – живые существа, но их сущность записана на имитации специального устройства, внедренной в генетический материал, которая называется личностная матрица. Разрушить матрицу невозможно, потому как она представляет собой нечто нематериальное, что конкретно – Григорий Антонович почему-то вспомнить не мог. Но он точно знал, что личностная матрица каждого Воителя регулярно, через некие малые промежутки времени, копируется, используя специальный уникальный код. Код личностной матрицы создаёт скопированные элементы, называемые сигнатурами возрождения, на любом носителе. К примеру – матрица может быть скопирована на поверхность ближайшей планеты (тогда там просто останется крохотный непонятный узорчик), на фотосферу звезды, на магнитный полюс, да хоть на реликтовое излучение. Словом, технология универсальная, поэтому определенная часть космоса просто кишит этими сигнатурами возрождения, накопленными за столетия. И потому-то Воителя Гнева уничтожить полностью невозможно. Точнее, возможно, но только в теории.
Воители – невообразимое творение Сияния Звёздной пыли. Можно сказать, именно благодаря созданию этого ордена, Ковчег до сих пор не смог пожрать все их миры. У самого Ковчега таких войск нет. Однако кое-что подобное, они всё-таки сумели сотворить.
Там, на Галосе, на мрачном спутнике мертвой планеты, что была выжжена войной, среди нескончаемых дождей из жидкого метана, сразились тогда Воители с Ангелами Тишины.
Григорий Антонович даже чуть усмехнулся, когда в памяти встали образы этих Ангелов – щупленькие и тонкие, как их только не сдували ветры тяжелой атмосферы Галоса?! Но на деле они были искусными мастерами уничтожения. Их тщедушные тела покрывала тонюсенькая плёночка (как обёрточный полиэтилен, в который они на рыбалку бутеры заворачивали) непреодолимого силового поля. А мощь этих «доходяг» позволяла им в щепки разносить скалы одним неуловимым движением…
– Оказалось, что правители Радужного Ковчега, – вновь в колодце стал слышен голос Кдахны, – не просто щедро оплатили это предательство, они приняли его, мерзавца, в род властелинов. Вот какова оказалась цена алчности. Теперь его имя недостойно упоминаться среди нас, и зовём мы его – нечестивец.
– Я, кажется, понимаю, как это произошло. Он приказал всем сложить доспехи и оружие, а затем отключить волю, так?
– Истинно так, Могучий Мьорр. Ты прав. Воители Гнева не в силах ослушаться приказа Верховного вождя, каким бы приказ не был. Вот так он и сдал нас всех.
– А дальше? Что Радужный Ковчег сделал с нами? Неужели премии лишил, или выговор, не дай Бог, да с занесением, как недавно Витьку Ерохину влепили за то, что он прямо на планёрке…
Кдахна вздохнула, поняв, что Мьорр вновь ускользает от нее, оставляя наедине с плешивым логистом, и бросила ему в лицо кусочек пламени, что оторвала от своей руки. Григорий Антонович осёкся, и сразу же перед ним возник пейзаж, который столько раз он наблюдал в своих чумных незапоминающихся снах. Яркое от близких звезд и туманностей розоватое, чужое небо, в центре которого висит гигантская глыба, переливающаяся всеми цветами. Радужный Ковчег, как есть. Колоссальный корабль-дом для целой расы. Григорий Антонович ужаснулся грандиозности увиденного и шмыгнул куда-то вглубь себя, уступив снова место Мьорру.
– Дальше, Могучий, всех выживших в той последней битве Воителей отправили в ссылку, – прервала Кдахна воспоминания Григория Антоновича, – в разные, немыслимо далёкие миры, вроде этого. Как же тебе нелегко, наверное, в этом…теле.
– Не знаю, – сказал Мьорр, трогая лысину. – Моя сущность дремала, а жила только малая часть, что не имеет прямого доступа к памяти. Да и тело, знаешь, не такое уж прям! А вообще, нормальное, кстати, есть и похуже. Вот, видела Толяна из третьего подъезда?! Вот он жирдяй, а я…
– Гриша, завязывай, – снова прервала его Кдахна.
Мьорр вздохнул и опустил глаза. Молчание снова воцарилось на балконе, оба пылающих силуэта вновь беззвучно глядели в застывшее небо и чуть касались друг друга язычками пламени, обмениваясь информацией. Кдахна понимала, что ему тяжело отделять высшую часть своей сущности от другой, не столь высокой, к которой он так прикипел, и которая все эти годы воображала себя единой, целостной личностью.
– О, Могучий, – продолжила Кдахна доверительным, мягким тоном, заглядывая Григорию Антоновичу в глаза, – благодаря тебе они не смогли нас уничтожить, рассеять навечно по бесконечности миров. Ты сумел, хитростью ли, везением ли, собрать коды личностных матриц всех пленных Воителей, и спрятать в себе. Потому нити меж матрицами Воителей и сигнатурами возрождения не достались врагу, а значит – возвращение в наш мир всех воинов ордена возможно прямо сейчас.
– Но как ты сама смогла явиться, Разящая? Как ты сумела освободиться? Почему твоего кода у меня не оказалось?
– Меня, и нескольких других Воителей Гнева под моим командованием, воссоздали вручную из сигнатур возрождения, ведь я и почти все воины моего отряда погибли на Галосе.
– Кто воссоздал?
– Командование Сияния Звездой пыли. Там очень много всего произошло после того, как вас изгнали, всего не перескажешь. Война продолжилась, и, со временем, войскам Сияния удалось установить контроль над многими планетами, отвоевав их у Ковчега. Потому они смогли отыскать сигнатуры павших на Галосе Воителей и воскресить их, без посредства кодов личностных матриц.
– Невероятны и сложны для понимания слова твои, Кдахна. Но пусть будет так. Зачем же ты явилась? Ведь не просто побеседовать.
– Ты нужен нам, Могучий. Нам нужны все Воители Гнева, чтобы победить, наконец, Радужный Ковчег. Мы никогда ещё не были так близки, силы наших армий уже разгромили все полчища их новых боевых машин.