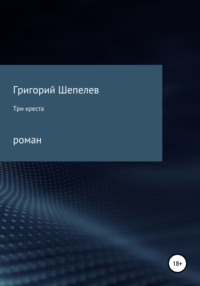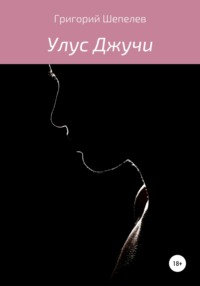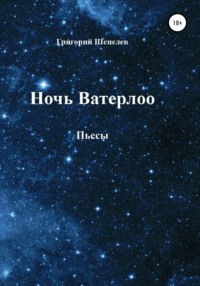полная версия
полная версияПолная версия
Холодная комната
Под вечер остановились в придорожном шинке. Вот уж тут Ребекка вдоволь наслушалась запорожцев, да и сама им кое-что рассказала. Выяснилось, что сотник уехал воевать с турками, а двух дочек оставил на попечение молодой, красивой вдовы Ясины, из-за которой ропщут прочие бабы и девки в хуторе, потому что она ведёт себя с ними, как госпожа. В тот день, когда пан уехал, жена попа – также молодая и недурная собою баба, сцепилась с нею из-за пустяшного дела. Сперва они обругали матом одна другую, потом пошла у них драка. Их разнимали четверо казаков и шестеро хлопцев.
– Ох, не научит она их доброму, панских дочек-то, – говорил, стуча по столу ковшом, самый молодой из трёх казаков, с таким длинным чубом, что его можно было бы обернуть вокруг головы, как женскую косу, – я ведь отлично знаю эту Ясину! Я и отца её знал, и мать, и деда, и братьев. Напрасно пан не велит её драть вожжами или лозой! А всё отчего? А всё оттого, что пан с ней свалялся!
– Полно, полно, Дорош, – возражал другой, пониже и побрюхатей, – это уж вовсе не наше дело, а панское! Видно, Господу так угодно.
И осенил себя крестным знамением. Дорош громко ударил по столу кулаком.
– Ты что говоришь-то? Богу угодно, чтоб пан жил с бабою без венчания? Это, может, в жидовской вере так принято! А у нас, у крещёных…
– Ты, дядька, просто дурак, – вскипела Ребекка, хлебнув горилки, – просто дурак, и всё тут!
– Я – не дурак, у меня есть крест! – прогудел Дорош, доставая крест из-за ворота, – вот он, крест! Меня поп крестил в христианской церкви! А твой где крест? Нету? Стало быть, дура – ты, а я – не дурак! Жидовка ты некрещёная, и жидовский бог у тебя! Жидовский! Не христианский!
– Полно, полно, Дорош, – повторял брюхатый, – это уж вовсе не наше дело, а божье! Бог, он всё видит!
Третий казак, которому отдала Ребекка конверт с письмом, объяснив, что кот его надорвал, пил молча и курил трубку. Хлебнув ещё, Ребекка куснула за небольшой и упругий зад молоденькую шинкарку, ставившую на стол вареники со сметаной. Шинкарка взвизгнула. У Дороша брови поползли вверх. Брюхатый опять принялся его утешать – мол, не наше дело, Богу виднее!
Ближе к утру Ребекка стала играть на скрипке гопак. Казаки плясали. Грицко лежал животом на лавке. Замучившись терзать струны, Ребекка уселась на его бёдра верхом и стала облизывать ему спину, задрав рубашку на ней. Тут уж и брюхатый лишь открыл рот, сказать ничего не смог.
На рассвете тронулись. И теперь Ребекка сидела рядом с Грицком. За её спиной из возка звучал дружный храп. Заря растекалась по небу, как густой вишнёвый кисель, пролившийся из кувшина. Звенели жаворонки. Дорога шла вдоль Днепра. Над ним колыхались хлопья тумана.
– Как хорошо! – вздохнула Ребекка, оглядывая зелёный степной простор с небольшими рощами, над одной из которых кружился кречет, – чудо, как хорошо!
– Да, есть где силки на перепелов расставить, – согласился Грицко, – и зайцев здесь тьма!
Грицко приглянулся Ребекке тем, что очень уж был похож на девчонку – худенький, белобрысый, с тонким горбатым носиком и большими пепельными глазами. «Юбку надеть на него заместо штанов, да ноги ему отмыть, а также и уши – любой казак закрутит усы!» – мелькнула у неё мысль. Вслух она спросила возницу, нет ли сестры у него. В ответ прозвучало, что нет никакой сестры, да и леший с ней.
– Наоборот, жаль! Была бы красавица. А брат есть?
– Да, брат есть. Ивась.
– Он старше тебя?
– Нет, младше примерно на год.
Кони шли медленно, успевая щипать траву, благо что она – сочная, густая, клонилась к ним целыми снопами с обочины. Взошло солнце. Глядя по сторонам, Ребекка увидела вдруг на западном горизонте три деревянных купола.
– Монастырь там, что ли?
– Да, монастырь, – ответил Грицко, – мужской. Я в нём обучался четыре года.
– Ты? В нём? Чему?
– Иконы писать.
Ребекка, до крайней степени изумлённая, ещё раз оглядела хлопца. Если четыре года учился, то вряд ли без толку, дурака прогнали бы сразу! Так это – иконописец, живущий помыслами на облаке? Что за вздор! О чём он способен думать, кроме как о перепелах и зайцах? Что он умеет, кроме как запрягать коней да хуторских девок хватать за ляжки?
– Иконы? – переспросила Ребекка, – и у тебя это получалось?
– Да как сказать? Игумен орал, что в моей мазне нет святости ни на грош. У меня уж слишком всё выходило так, как на самом деле! А Богородицу и святых так писать нельзя.
– А как, интересно, нужно писать иконы?
– А нужно их писать так, чтоб Дух проступал сквозь образ. Ведь икона не может заговорить с тобой и словами выразить свою святость! Стало быть, вместо слов должны быть черты. Кто будет кланяться образу, если это – образ обычного человека?
– Но ведь бывают люди, которым хочется поклониться при одном взгляде на их глаза, – молвила Ребекка, глядя, как пристяжной пытается согнать с уха овода, – или это – бесовское наваждение?
– Нет, не думаю. Я таких людей повсюду искал и запоминал, чтоб потом писать с них иконы. Но старцы мне говорили, что не должна быть икона образом человека. От неё должен исходить Дух, который есть Бог. А помыслы Бога выше помыслов человеческих.
– Это верно, – кивнула взлохмаченной головой Ребекка. В лучах июльского солнышка её стал одолевать сон. Но она решила не поддаваться. Возок, тем временем, вполз на гору, восточная сторона которой срывалась круто к Днепру, а западный склон ниспадал уступами к перелеску. Сзади и спереди от него зияли овраги, густо заросшие всякой дрянью. С горы же открылся вид на сотников хутор. Верхняя его часть с двумя ветряными мельницами стояла на её нижнем уступе. Вдали, у линии горизонта, были видны другие селения. Хутор не показался Ребекке очень большим, поскольку часть хат скрывалась за яблонями и грушами. Лишь потом ей стало известно, что он насчитывает полсотни дворов. На дальнем его краю, среди тополей и вязов, высилась церковь с тремя конусообразными куполами. От неё шла через заливные луга тропинка к Днепру.
Спуск к хутору был крутой, и притом дорога тянулась не напрямик, а зигзагами, огибая бугры и рытвины. Пару раз возок накренился так, что Ребекка вскрикнула. Но Грицко и кони настолько приноровились к спуску, что ни они, ни он, судя по их взглядам, даже не отвлеклись от своих дремотных, туманных помыслов. Вблизи хутора паслось стадо – коровы, овцы. Их сторожили со всех сторон ухоженные борзые псы. Долговязый хлопец, сидя на камне, перебирал струны домры.
– Микитка, псарь, – представил его Грицко, – пастух наш недавно помер, так что пока Микитка пасёт, – и повысил голос, свесившись в сторону, – эй, Микитка! Здорова!
Микитка молча махнул рукою, явно досадуя, что ему оборвали песню.
– А девиц много у вас на хуторе? – поинтересовалась Ребекка.
– Десятка два осталось ещё. Пан быстро для них женихов находит. Он говорит, что всё зло – от девок и баб безмужних.
– А сам с Ясиной живёт?
– Да, порой случается и такое.
Достигли хутора. Возле мельниц Грицко рывком натянул поводья. Кони остановились. Три казака, проснувшись, повылезали. Ребекка спрыгнула с облучка, и Грицко один поехал к конюшне. Был уже полдень или без четверти. Запорожцы, зевнув, раскурили трубки и повели Ребекку к панскому дому. Один казак нёс её мешок, другой – обе скрипки, а третий – ноты. Было их два мешка. По хутору ошивались куры, бабы и свиньи. Они с большим интересом глазели на длинноносую незнакомку с чёрными волосами и переглядывались, обмениваясь без слов какими-то мыслями. Перед панской хатой стояли двумя рядами амбары. С трёх сторон хату обступал сад. Две груши росли в сторонке от остальных, справа от крыльца. Между их стволами была натянута бельевая верёвка. Стройная молодая женщина с очень бледным лицом развешивала на ней бабские чулки, рубашки и панталоны. Это занятие показалось Ребекке довольно странным, ибо лицо бледной незнакомки ошеломило её своей красотой. Да, её, её, знавшую любовниц трёх королей и обворовавшую их! Замерев на месте, Ребекка молча глядела.
Прекрасная хуторянка слишком была поглощена делом и напевала, поэтому ничего вокруг вообще не видела и не слышала. Перехлёстывая верёвку мокрым бельём, она так легко вставала на пальцы ног, что можно было подумать – её с трёх лет учили балету. На ней был белый платок от солнца и голубой сарафан, надетый поверх рубашки. Он был для девушки тесноват, рубашка прилипла к её вспотевшему телу так, что вполне очерчивались округлые ягодицы, стройные бёдра, вогнутая спина, упругие груди. Светло-русые волосы выбивались из-под платка на глаза красавицы, очень грустные и большие.
Три казака с облаками дыма ввалились в хату. Услышав стук их сапог по доскам крыльца, прачка обернулась, и – оказалась лицом к лицу с приблизившейся Ребеккой. От неожиданности красавица сделала шаг назад, комкая болезненно-тонкими, огрубевшими от работы пальчиками рубашку с пышными кружевами. Опять приблизившись к ней вплотную, Ребекка села на корточки и ощупала каждый палец сперва одной загорелой её ноги, а затем – другой, пытаясь понять, откуда у них балетные свойства. Выпрямляясь, она спросила:
– Тебя Ясиной зовут?
– Нет, я не Ясина, – пробормотала прачка, – я – Настя.
Голос был тихий, мягкий, встревоженный. Но не робкий. Ребекка не отрывала глаз от лица загадочной девушки.
– Это всё бельё панночек?
– И Ясины.
– Кто ты такая? Немедленно отвечай! Признавайся!
– Настя.
Три запорожца вышли из хаты и убрели, смеясь над Ясиной. За ними вышла она сама. Взглянув на неё, Ребекка также хихикнула: хоть Ясина и хороша была, а смешно смотрелась в голубом платье времён царицы Елизаветы, откопанном в сундуке покойной супруги пана. Вдобавок, платье из золотой парчи оказалось и не совсем по росту Ясине, коротко. На её ногах были дорогие шёлковые чулки, а обуви не было – туфли все оказались ей маловаты. На пальцах дворовой бабы блестели кольца с рубинами и сапфирами, в ушах – серьги до самых плеч.
Ясина не стала долго приглядываться к Ребекке. Её усмешка пришлась ей не по душе. Но досталось Насте. Подойдя к ней, Ясина вырвала у неё ночную рубашку и осмотрела её придирчиво, а затем подняла глаза на бледную прачку.
– Это ты, стало быть, так стирала?
– Да, – чуть слышно сказала Настя, – а разве где-то не чисто?
Так от Ясины несло горилкой и так глаза её вспыхнули, что Ребекка не удивилась бы, загорись она вся огнём выше дерева. Но Ясина вместо того вдруг стала хлестать Настю мокрой рубашкою по щекам, выкрикивая ругательства. Настя не уклонилась, не отошла, даже рук не вскинула – лишь зажмурилась и втянула голову в плечи. Платочек с неё слетел, задетый ударом, и белокурые волосы ослепительно разметались по сторонам. Ясину такое пренебрежение христианскими нормами распалило ещё сильнее. Она начала хлестать уже со всей силы, а силы было у неё много.
– Ты что, сдурела, пьяная дрянь? – крикнула Ребекка, толкнув её хорошенько. Ясина не удержалась – шлёпнулась на траву, взмахнув длинными ногами, и завизжала:
– А ну, пошла на конюшню, овца поганая! На конюшню!
Настя заплакала.
– Да за что, за что? – всхлипнула она. Щёки у неё стали красны, как гроздья спелой черешни на деревцах у забора. Ясина, зверски вздёрнув губу, рванулась подняться, но оступилась и опрокинулась вновь. Осознав, что худо ей будет, если помедлит, Настя подобрала подол сарафана и устремилась к воротам так, что вмиг её след простыл, лишь пятки сверкнули и всколыхнулась трава.
На шум вышли панночки. И вот тут у Ребекки волосы встали дыбом.
Глава шестая
Нестерпимое солнце стояло посреди неба. Зной висел неподвижный, душный. Улица опустела – свиньи и те попрятались от жары. Настя шла к конюшне. Слёзы ещё просились из её глаз, но она утёрла и те, которые были. Она ведь знала, что на конюшне – Грицко, который уж третий год смотрел на неё такими глазами, что ей немыслимо было бы показаться ему униженной страхом порки. Кричать от боли – это ещё ничего, а бояться стыдно. Земля жгла голые ноги, потому Настя шагала спешно, глядя на Днепр, синевший за огородами и лугами. Днепр казался ленивым, ласковым, сонным, но Настя знала, как он стремителен, как прожорливы его омуты, как студёно на глубине. Она вдруг представила, как взглянёт на неё Грицко, если её выловят через день. А если дней через десять, заволочённую круговертью в заводь за островком и всплывшую среди лилий? Дрожь прошла по ногам. Они замелькали вдвое быстрее.
Конюшня пана стояла на краю хутора, близко к церкви. Вокруг строения росли яблони – так росли, что редкий луч солнца дотягивался сквозь зелень и паутину на узких окнах до сотниковых коней, которых осталось на попечении Ивася с Грицком двадцать штук. Они все, кроме трёх коньков, которые притащили возок с Ребеккой, были арабские скакуны. Иных не признавал сотник. Тем трём конькам, распрягши и напоив их, сыпал Грицко овёс, когда вошла Настя.
Ивась ещё не проснулся, так как всю ночь сидел у реки, пытаясь поймать сома. Он спал на широкой лавке, накрытой толстым соломенным тюфяком. Взглянув на него, затем – на Грицка, который, увидев её, просыпал ведро зерна, Настя улыбнулась.
– Здравствуй, Грицко. Как съездили в Киев?
– Да ничего, – произнёс Грицко, отставив ведро, – привезли скрипачку.
– Видала.
– А ты зачем пришла?
– Как зачем? Разве ты не знаешь, зачем Ясина меня сюда присылает?
Грицко смутился. Видя, что он растерян, Настя приблизилась к Ивасю и тронула его руку.
– Да погоди, не буди его, – прошептал Грицко, и, подбежав к Насте, встал между ней и братом, – мы потом скажем ей, что велели тебе воды натаскать да отскрести пол, поэтому ты на два часа задержалась!
– Разве она поверит? – спросила Настя тихо и нерешительно.
– А куда она денется, если ей об этом скажет Ивась? Ивасю никак нельзя не поверить.
Некоторое время они молчали, глядя то на Ивася, то на высокий столб посреди конюшни, к которому он привязывал баб и девок для порки, то друг на друга. Один, казалось, о чём-то спрашивал, а другая знала ответ. Наконец, Грицко с внезапной решимостью взял красивую прачку за руку.
– Ну, пойдём!
– Куда мы с тобой пойдём? – удивилась Настя.
– Под дуб.
Ответ успокоил Настю, хоть и не сильно ей по душе пришёлся. Тихонько вышли.
Громадный пятисотлетний дуб стоял над оврагом, позади церкви. К нему вела извилистая тропинка среди кустов и крапивы. На небо было больно взглянуть. Горячей, влажной стеной стояло безмолвие. Ни один кузнечик не стрекотал. Добредя до дуба, Грицко и Настя спустились на дно оврага. Там, в лопухах, бежал по мшистым камням ручей. Попив и умывшись, Настя присела на кочку. Грицко, тем временем, сдвинул плоский, большой, приваленный к склону камень. За ним шло в склон углубление. Вытащив из него какой-то предмет, завёрнутый в тряпку, Грицко его развернул. То была доска размером почти как печной заслон, с одной стороны покрытая тёмной темперой. На другой стороне был начат портрет. Пока что имелись лишь очертания, но по ним уже можно было угадать Настю. Прачка не изъявила желания поглядеть на свой образ. Когда Грицко, прислонив стоймя доску к другому большому камню, достал из ямы горшочки с красками и две кисти, она слегка расчесала волосы гребешком, который висел у неё на поясе.
Грицко долго размачивал в ручье кисти, разводил краски. Наконец, начал. Точнее сказать – продолжил, встав перед доской на коленки. Дуб давал тень, спасавшую от жары. Но дышалось тяжко.
– Будет гроза, – промолвила Настя, взглянув на западный горизонт, который заволокло мрачной синевой.
– Не раньше, чем через час, – заметил Грицко, – а может, тучу и вовсе пронесёт мимо.
Следя за его работой, она невесело размышляла о чём-то. По её тонкой, белой руке, изящно державшей костяной гребень, ползла большая божья коровка. Ползла, ползла, потом вдруг остановилась на выставленном вперёд суставе запястья.
– Ты и её нарисуешь? – спросила Настя. Грицко мотнул головой.
– А почему нет?
– Потому, что вряд ли они там водятся.
– Где?
Из степной дали докатился, стихая, гром. Грицко, высунув язык, старательно вырисовывал что-то тоненькой кистью. Настя решила, что он рисует её лицо. Ей стало тревожно.
– Грицко! Скажи, кого ты рисуешь?
– Тебя рисую, – гораздо больше с испугом, чем с удивлением отвечал Грицко, бросив взгляд на Настю поверх доски, – разве здесь ещё кто-то есть?
– Маришка сказала мне, что на досках рисуют лишь Богородицу и угодников. А простых людей рисовать, даже и цариц – берут холст, натягивают его на раму, чтоб не болтался, раму ту золотят до чудного блеска, а на холсте уже и рисуют.
Грицко растерянно почесал затылок.
– Ну, это надо уметь. Холст – дело особое. Я учился только на досках. Да и потом…
Тут он вдруг запнулся.
– Ну, что потом? – сердито спросила Настя. Божья коровка, расправив крылышки, улетела.
– Если нарисовать тебя на холсте – все, пожалуй, скажут, что не на нём тебе надо быть. Ну, или подумают.
Сказав это, Грицко умолк. Молчала и Настя. Она ждала продолжения. Живописец смутился ещё сильнее.
– Ну, как бы сказать… У тебя в глазах страдания столько, что на тебя хочется молиться, как на Деву Марию.
– Да?
Мимолётная, как судорога, усмешка на губах Настеньки обожгла Грицку сердце. Он поспешил вернуться к работе, чтоб успокоиться. Но досада не отступала.
– Какой ты глупый, Грицко, – опять усмехнулась Настя, смахнув с ноги муравья, – совсем дурачок!
Дуб начал шуметь – подымался ветер. Светлые глаза Насти вдруг изменились, будто бы отразив мрачную часть неба.
– У Богородицы на глазах дитя её мучили и казнили! А я печальна лишь оттого, что Яська со мной неласкова, как напьётся! Если тебе не на кого молиться, Грицко, помолись на пана. Его печаль к великой святой печали куда как ближе!
– А что ж он так себя мучит? – тихо, но страшно проговорил Грицко, нанося мазки, – признался бы, чья ты дочь, и дело с концом! Кого он боится? Маришку с Лизой? Да пусть хоть лопнут от злости! Чем ты их хуже?
– А ты как будто не знаешь, чем я их хуже! – с горечью отозвалась Настенька, – на могиле их матери он льёт слёзы, просит прощения, что гулял от неё с холопкой! Лиза всё это слышит. А как холопку звали, едва ли он даже помнит.
– И всё же он тебя любит, Настя. Это уж точно.
– Да, верно. Любит, но совсем крохотной частью своего сердца. А остальной – ненавидит люто. Пуще его ненавидит меня лишь Лиза – за то, что мы схожи с нею. Лишь волосы и глаза не одного цвета.
С четверть часа молчали. Грицко работал сосредоточенно, быстро, не отрывая глаз от доски. Тем временем, дуб шумел всё сильнее. Грозная синева приближалась к хутору, заволакивая всё небо. Степь вдалеке колыхалась волнами, будто море. Яростно полыхали молнии. Глухо, рвано грохотал гром.
– Пора нам, Грицко, – объявила Настя, заколов волосы гребешком, – иначе утонем здесь. Собирайся.
Грицко, вздохнув, поднялся с колен.
– Эх! Ещё бы час, и – конец работе. Но, точно, надо идти.
Однако же, не успел он старательно завернуть и убрать картину, как по Днепру хлестнул ливень с градом. Спустя мгновение он обрушился на овраг. Настя, завизжав, полезла в пещеру, скрытую прежде камнем, благо что та была по размерам с большой сундук и плотно обмазана внутри глиной. Нашлось там место и для Грицка.
Долго и безмолвно лежали они ничком, бок о бок, глядя на растекающийся ручей. Им хотелось век так лежать, не думая ни о чём, даже друг о друге – просто смотреть на воду и слушать воду. Трава внизу полегла под её клокочущим, пенным шквалом, потом и вовсе исчезла в бурном потоке. Грицко уж начал бояться, что и пещеру зальёт, когда за рекою вдруг просветлело.
– Надо идти, – чуть слышно проговорила Настя. Её глаза, широко раскрытые на слепящий, звонкий от ликования жаворонков просвет, видели, казалось, что-то другое. Грицко молчал. Когда Настя стала приподниматься, желая выползти из пещеры, он положил ладонь на её лодыжку.
– Дай дождю кончиться.
– Оставайся! – вскрикнула Настя, резким движением вырвав ногу из его пальцев, – тебе, я вижу, с ней интереснее!
Прояснилось. Вспыхнула радуга над Днепром. По щиколотку в грязи шла Настя к конюшне. Проходя мимо церкви, она столкнулась с Ясиной. Та шагала из хутора – без чулок, задрав до колен подол дворянского платья.
– Ты где была, сучья дочь? – спросила она, схватив Настю за руку. Настя съёжилась под свирепым, пьяным, кошачьим взглядом.
– Да я… в овраге пряталась от дождя.
– Пряталась в овраге? – раздула ноздри Ясина, – но я велела тебе идти на конюшню! Ты там была?
– Не была! Мне пить захотелось, и я спустилась к ручью, да там… там уснула.
Ясина, хмыкнув, крепко взяла двумя пальцами Настю за ухо, и, заставив её нагнуться, поволокла. Настя сжала зубы, чтобы не застонать от боли – пальчики у Ясины были как клещи. Не обменявшись больше ни одним словом, дошли они до конюшни.
Там было весело. Ивась скрёб любимого панского жеребца и что-то рассказывал трём сидевшим на лавке девицам. Те смеялись, лузгая семечки. К Ивасю частенько ходили поболтать девки и молодые вдовы – в том числе те, которых случалось ему наказывать у столба по приказу пана. Когда Ясина с Настей вошли, веселье вмиг стихло. Девушки поняли, для чего любовница пана приволокла несчастную прачку. Любили Настю не все, но не было в хуторе человека, который ей не сочувствовал. Даже сама Ясина в минуты трезвости и особого просветления плакала у неё на груди, не находя слов, а панночки иногда дарили ей что-нибудь. Но в то утро ни о каком просветлении у Ясины ни один демон, живущий в её душе, даже не тревожился.
– Вы зачем явились сюда? – поинтересовался конюх, не прерывая работу. Отпустив ухо Насти, Ясина грубо толкнула её к нему.
– Да вот, полюбуйся! Послала её к тебе, а она в овраге с кем-то свалялась. Всыпь-ка ей так, чтоб она неделю сесть не могла!
– А с кем же она свалялась? – спросил Ивась и скосил глаза на овёс, просыпанный братом. Ясина, также на него глянув, с неудовольствием поняла, что сболтнула лишнее. Ей совсем не хотелось ссоры с Ивасем, однако Насте спускать никак нельзя было, ибо её провинность была ужасна: при ней, при Насте, её, Ясину, подняли на смех! Недолго длилась растерянность сотниковой любимицы. Помолчав, она перешла на крик:
– А я почём знаю? Пускай сама, дрянь, признается – не добром, так под розгами! Становись к столбу, сука!
Настя, закрыв пылающее лицо ладонями, поплелась к столбу, в котором посередине была дыра со вдетым в неё ремнём, чтоб руки привязывать. Но Ивась сразу остановил её.
– Погоди! И ты погоди, Ясина. Ты её присылаешь сюда почти каждый день. Пора передышку сделать. Не тебе сотник велел решать, кого и как сечь.
– Так ты что, не будешь её пороть? – спросила Ясина сдавленным голосом, обводя глазами углы конюшни. Она, казалось, искала, чем убить Настю.
– Я с нею поговорю, когда доскребу коней. А после неё я поговорю ещё и с попом. Но сейчас я занят работою.
На лице Ясины возникло что-то вроде усмешки, напоминавшей оскал убитой лисицы.
– Ты, как я вижу, просто не хочешь, чтоб знали, кто с нею был! Так, что ли, Ивась? Скажи, если так!
– Ясина, ступай проспись, – произнёс Ивась, улыбнувшись, – добром прошу! Убирайся.
– Ну, хорошо! Будь по-твоему.
Так ответив, Ясина плюнула, и, дав Насте звонкую оплеуху, выбежала на воздух. Лицо у неё пылало, как будто пару пощёчин влепили ей. Дойдя до колодца, она черпнула ведром воды, напилась, умылась и пошла дальше.
После дождя на улице сделалось посвежее. Переступив порог панской хаты, Ясина сразу увидела на столе немалый кувшин с горилкой и груду золота – кольца, серьги, браслеты. Все эти штуки принадлежали панночкам, но лежали ближе к Ребекке. Она сидела с веером карт и довольной рожей. Сёстры сидели с веерами побольше и невесёлые. Увидав Ясину, обе они смутились. Ребекка, хлопнув картой о карту, лежавшую на столе, во всю глотку крикнула:
– Вот вам, стервы! И ни хрена вы больше не накидаете, короли с десятками вышли!
– Что на кону? – поинтересовалась Ясина, плотно прикрыв за собою дверь. Весело скосив глаза на панскую любушку и хлебнув из кувшина, Ребекка отозвалась:
– Да у них уж больше ничего нету, кроме чулок и платьев, негодных и для кухарки в приличном доме! Дуру бьём по носу всей колодою столько раз, сколько карт у неё останется.
Тут Ясина заметила, что у панночек носы красные, а ребеккин носик, судя по его виду, ещё ни разу не подвергался расправе. Шагнув к Ребекке, Ясина вырвала из её рук карты и зашвырнула их в печь. Маришка и Лиза сразу швырнули туда свои и со стыдом встали, готовые к неприятностям. Но досталось Ребекке. Она хотела что-то сказать и открыла рот, но из него вырвались не слова, а истошный визг, поскольку Ясина молниеносно отвесила ей затрещину, от которой бык бы не устоял. Полетев со стула, скрипачка так взмахнула ногами в стоптанных башмаках, что те с них слетели. Пнув её пару раз пяткой по бокам и по роже, Ясина молвила: