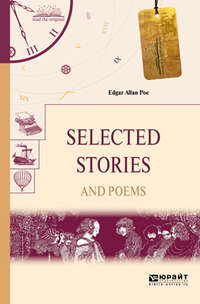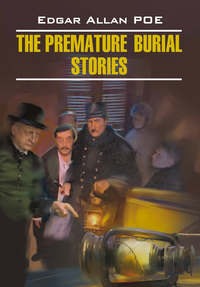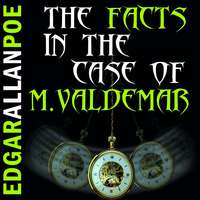Полная версия
Повесть о приключениях Артура Гордона Пима. Рассказы (сборник)
Спустя около полутора лет после гибели «Ариэля» компания «Ллойд и Реденберг» (каким-то образом связанная, как я предполагаю, с господами Эндерби из Ливерпуля) занялась починкой брига «Дельфин» и снаряжением его для охоты на китов. Это была старая посудина, которая даже после того, как с ней сделали все, что можно было сделать, едва ли стала мореходной. Мне трудно сказать, почему «Дельфин» предпочли другим, хорошим судам, принадлежащим тем же владельцам, но дело обстояло именно так. Мистера Барнарда назначили капитаном, и Август собирался отправиться с ним. Пока бриг готовили к плаванию, он постоянно распространялся о том, какие отличные сейчас представляются возможности для осуществления моей мечты пуститься в путешествие. Он нашел во мне вполне благосклонного слушателя. Но устроить все оказалось не так-то просто. Если мой отец отнюдь не противодействовал мне, то с матерью случалась истерика при одном упоминании о моей затее; однако неприятнее всего было то, что мой дед, от которого я многого ожидал, поклялся лишить меня наследства, если я еще хоть раз заведу разговор на эту тему. Эти препятствия, однако, не только не погасили мое желание, но даже подлили масла в огонь. Я решил идти в море во что бы то ни стало и, сообщив свое решение Августу, вместе с ним принялся разрабатывать план действий. Все это время я ни с кем из своих родственников не заговаривал о плавании, и поскольку был поглощен по видимости обычными занятиями, то все предположили, что я отказался от своих намерений. Впоследствии я не раз вспоминал мое поведение в те дни, испытывая смешанное чувство неудовольствия и удивления. Отъявленное лицемерие, с помощью которого я добивался достижения своего замысла и которым было отмечено каждое мое слово и каждый поступок на протяжении столь длительного срока, оказалось мне по плечу лишь благодаря пылким и необузданным надеждам, с какими я ожидал исполнения моей давно лелеемой мечты о путешествиях.
Дабы не навлечь на нас подозрений, я по необходимости вынужден был много дел оставить на попечение Августа, который каждый день большую часть времени был занят на борту «Дельфина», присматривая за кое-какими работами в каюте отца и трюме. Вечерами, однако, мы непременно встречались и обменивались новостями.
Так пролетел без малого месяц, а мы не сумели остановиться на каком-нибудь определенном плане, который обеспечил бы нам успех, пока, наконец, Август не придумал, что необходимо предпринять. В Нью-Бедфорде у меня жил родственник, мистер Росс, и время от времени я гостил у него в доме по две-три недели. Бриг должен был выйти в море около середины июня (1827 года), и было решено, что за день или два до отплытия «Дельфина» мой отец получит, как повелось, письмо от мистера Росса с приглашением для меня приехать и провести две недели с его сыновьями Робертом и Эмметом. Август взялся сочинить письмо и доставить его по назначению. Отправившись как будто в Нью-Бедфорд, я должен был встретиться с моим товарищем, который обеспечит мне убежище на борту «Дельфина». Он уверил меня, что устроит это убежище достаточно удобным для длительного пребывания, в течение которого я не должен обнаруживать себя. Когда бриг, следуя своим курсом, уйдет далеко в море, так что никто не решится поворачивать его назад, меня, по словам Августа, как положено, водворят со всеми удобствами в каюту; что до его отца, то он лишь от души посмеется над нашей проделкой. По пути, разумеется, попадутся суда, с которыми можно будет отправить домой письмо и объяснить моим родителям случившееся.
Наконец наступила середина июня, все было готово. Август написал письмо, вручил его моему отцу, и в понедельник утром я поспешил, как считали дома, на пакетбот, отправляющийся в Нью-Бедфорд. Вместо этого я отправился прямо к Августу, который ждал меня за углом. Согласно первоначальному плану я должен был: дождаться в укромном месте темноты, а затем проникнуть на судно, по поскольку, на счастье, стоял густой туман, то было решено не терять времени. Август направился к пристани, а на отдалении последовал за ним я, закутанный, дабы меня не узнали, в толстый морской плащ, который он прихватил с собой. Едва мы прошли мимо колодца мистера Эдмунда и еще раз свернули за угол, как прямо передо мной собственной персоной предстал, глядя мне в лицо, не кто иной, как мой дед мистер Петерсон. «Гордон, да ты ли это? – воскликнул он, оправившись от удивления. – Что с тобой?.. Зачем ты напялил на себя это старое тряпье?» – «Сэр! – отвечал я что ни на есть хриплым голосом и стараясь изо всех сил, как того требовала чрезвычайность момента, напустить на себя оскорбленный недоумевающий вид. – Сэр! Вы ошибаетесь. Во-первых, мое имя вовсе не какой-то там Гордон, а во-вторых, я не позволю всякому проходимцу называть мой новый плащ тряпьем». Ей-ей, я едва мог удержаться от хохота, видя, как повел себя почтенный джентльмен, получив этот достойный отпор. Он отступил на два-три шага, побледнел, затем побагровел, сдвинул на лоб очки, потом снова опустил их на переносицу и в бешенстве кинулся на меня, подняв зонтик. Однако он тут же остановился как вкопанный, словно что-то внезапно сообразил, и, повернув, заковылял, прихрамывая, по улице, трясясь от ярости и бормоча сквозь зубы: «Никуда не годится… нужны новые очки… принял чужого человека за Гордона… Будь он неладен, этот долговязый Том, бездельник, ржавая селедка!»
После этой рискованной встречи мы продвигались с большей осторожностью и без приключений добрались до пристани. На борту «Дельфина» находилось два или три матроса, да и те что-то делали у комингса люка на баке. Что до капитана Барнарда, то он, как мы знали, был занят в конторе «Ллойд и Реденберг» и останется там допоздна, так что мы могли не опасаться его появления. Август первый подошел к трапу, и вскоре, не замеченный работающими матросами, за ним последовал и я. Мы быстро пробрались в кают-компанию. Там никого не было. Кают-компания оказалась оборудованной с большим комфортом и вкусом, что весьма редко на китобойных судах. В нее выходили четыре отличные отдельные каюты с широкими удобными койками. Я обратил внимание на большую печь и на удивительно толстый дорогой ковер, который был постлан на пол в салоне и каютах. Высота подволока достигала добрых семи футов, словом, здесь сверх ожидания было просторно и уютно. Мне удалось лишь бегло осмотреть обстановку, так как Август торопил меня, считая, что я должен как можно скорее укрыться в моем убежище. Он провел меня в свою каюту, которая помещалась по правому борту, сразу за переборкой. Когда мы вошли, он закрыл дверь на засов. Я подумал, что никогда не видел более приятной комнатки, чем та, где мы оказались. Она имела в длину около десяти футов и только одну широкую, удобную койку, как и те, о которых я уже упомянул. В тон части каюты, что примыкала к переборке, было свободное пространство площадью фута четыре, где стоял стол со стулом, а над ним были навешены полки, полные книг, главным образом о плаваниях и путешествиях. Тут были и другие небольшие предметы, придающие комнате уют, и среди них некое устройство, вроде ледника или рефрижератора, где, как показал мне Август, находилось множество вкусных вещей – в продуктовом и в винном отделении.
Затем он надавил пальцами на одно место в углу и сказал, что часть настила, размером около шестнадцати квадратных дюймов, здесь аккуратно вырезана и снова прилажена по месту. Когда он нажал рукой на край выпиленной части, тот чуть приподнялся, и он подсунул под него пальцы. Таким образом он поднял крышку люка (ковер держался на ней благодаря мебельным гвоздям), и я увидел, что он ведет в кормовой трюм. Затем Август фосфорной спичкой зажег маленькую свечу и, поместив ее в потайной фонарь, спустился в люк, позвав меня за собой. После того как я последовал его указанию, он с помощью гвоздя, вбитого с внутренней стороны, опустил крышку, причем ковер, как легко догадаться, занял прежнее положение, скрыв какие бы то ни было следы отверстия.
Фонарь со свечой бросал такой слабый свет, что каждый шаг посреди наваленной кое-как кладки давался нам с величайшим трудом, мы шли чуть ли не ощупью. Постепенно, однако, глаза мои привыкли к мраку, и, держась за товарища, я продвигался вперед более уверенно. Бесчисленное множество раз нам приходилось пригибаться, пролезать через какие-то узкие проходы, но наконец он привел меня к окованному листовым железом ящику, наподобие тех, в каких иногда перевозят фаянс. В высоту он имел почти четыре фута, в длину полных шесть, но был очень узок. На ящике стояли две больших порожних бочки из-под масла, а сверху, поднимаясь до палубы каюты, было уложено огромное количество соломенных циновок. Кругом, куда ни ступи, в полнейшем беспорядке теснились, громоздясь до самого верха, всевозможнейшие предметы корабельного хозяйства и груды различных ящиков, корзин, бочонков, тюков, так что казалось чуть ли не чудом, что мы вообще сумели пробраться к ящику. Впоследствии я узнал, что Август намеренно набил трюм до отказа, чтобы наилучшим образом скрыть мое местопребывание, причем работал он с помощью только одного человека, не идущего в плавание.
Мой спутник сказал, что при желании одну торцовую стенку ящика можно сиять. Он отодвинул ее в сторону и показал мне внутренность ящика. Я был приятно поражен: на дне ящика во всю длину был постелен матрац, снятый с каютной, койки, тут же находились почти все предметы первой необходимости, какие только можно было разместить в таком малом пространстве, оставив в то же время достаточно места, чтобы я мог расположиться – сидя или вытянувшись во весь рост. Среди вещей было несколько книг, перо, чернила и бумага, три одеяла, большой кувшин, наполненный водой, бочонок морских сухарей, три или четыре болонские колбасы, громадный окорок, зажаренная баранья нога и полдюжины бутылок горячительных напитков и ликера. Я немедленно вступил во владение своим крохотным жилищем, причем убежден, что испытал при этом удовольствие большее, нежели то, какое когда-либо доводилось испытать монарху, вступающему во дворец. Август научил меня, как закреплять открывающуюся стенку ящика, а затем, опустив свечу к настилу, показал мне кусок темной бечевки на полу. Эта бечевка, объяснил он, протянута от моего убежища через все необходимые повороты и проходы между грузом к люку, ведущему в его каюту, и привязана к гвоздю, вколоченному в трюмную палубу как раз под ним. Следуя вдоль веревки, я могу легко выбраться отсюда без его помощи, если какое-нибудь непредвиденное обстоятельство вызовет такую необходимость. Затем он попрощался со мной, оставив мне фонарь с обильным запасом свечей и спичек, и обещал наведываться всякий раз, когда удастся проскользнуть сюда незамеченным. Это произошло семнадцатого июня.
Насколько можно судить, я провел в своем убежище три дня и три ночи, почти не вылезая из ящика, и лишь дважды, чтобы размять мускулы, выпрямился во весь рост между ящиками, как раз напротив открывающейся стенки. Все это время Август не показывался, но это не сильно беспокоило меня, поскольку я знал, что бриг должен вот-вот выйти в море и что в предотъездной суете ему нелегко выбрать, случай спуститься ко мне. Наконец я услышал, как поднялась, а затем опустилась крышка люка, и вскорости тихим голосом Август спросил, все ли у меня в порядке и не нужно ли мне чего-нибудь. «Нет, – сказал я. – Удобнее не устроишься. Когда отплываем?»
– «Судно снимается с якоря меньше чем через полчаса, – ответил он. – Я пришел сказать тебе об этом, чтобы ты не волновался из-за моего отсутствия. Я не смогу снова спуститься сюда какое-то время, может быть, дня три-четыре. Наверху все в порядке. Когда я вылезу и закрою крышку, пожалуйста, пройди вдоль бечевки сюда, где торчит гвоздь. Я оставляю здесь часы – они могут тебе пригодиться, чтобы узнавать время, ведь дневного света здесь нет. Ты, наверное, не знаешь, сколько ты тут просидел… всего три дня… сегодня двадцатое. Я принес бы часы сам, да боюсь, что меня хватятся». С этими словами он исчез.
Приблизительно через час после того, как Август ушел, я отчетливо почувствовал наконец, что судно движется, и поздравил себя с благополучным началом плавания. Вполне довольный, я решил по возможности ни о чем больше не думать и спокойно ожидать естественной развязки событий, когда мне разрешат сменить мой ящик на более просторное, хотя вряд ли намного более удобное каютное помещение. Первым делом надо было достать часы. Оставив свечу зажженной, я стал пробираться в полумраке вдоль бечевки, через бесконечный лабиринт переходов, так что иногда, одолев довольно большое расстояние, я снова оказывался в футе или двух от исходной точки. В конце концов я добрался до гвоздя и, взяв часы, целым и невредимым вернулся назад.
Затем я просмотрел книги, которые заботливо подобрал для меня Август, и остановился на экспедиции Льюиса и Кларка к устью Колумбии. Некоторое время я с интересом читал, потом почувствовал, что меня одолевает дремота, осторожно погасил свечу и вскоре уснул здоровым сном.
Проснувшись, я почувствовал, что никак не могу собраться с мыслями, и прошел какой-то срок, прежде чем мне удалось припомнить все обстоятельства моего положения. Постепенно я припомнил все. Я зажег свечу и посмотрел на часы, но они остановились, и я, следовательно, был лишен возможности узнать, как долго я спал. Члены мои совсем онемели, и я был вынужден размять мускулы, выпрямившись между ящиками. Почувствовав вскоре волчий аппетит, я вспомнил о холодной баранине, которой отведал перед тем как уснуть и нашел превосходной. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что она совершенно испортилась! Это обстоятельство вызвало у меня сильное беспокойство, ибо, связав его с беспорядочным состоянием ума после пробуждения, я подумал, что спал, должно быть, необыкновенно долго. Одной из причин тому мог быть спертый воздух в трюме, что имело бы в конечном счете пренеприятные последствия. Сильно болела голова, казалось, что трудно дышать, и вообще меня обуревали самые мрачные предчувствия. И все же я не осмеливался дать о себе знать, открыв люк или как-нибудь иначе, а потому, заведя часы, решил, насколько возможно, запастись терпением.
На протяжении следующих двадцати четырех тягостных часов никто не явился избавить меня, и я не мог не винить Августа в явном невнимании к другу.
Но больше всего меня беспокоило то, что воды в моем кувшине поубавилось до полупинты, а я мучился жаждой, изрядно поев копченой колбасы, когда обнаружил, что моя баранина пропала. Мне было явно не по себе, читать решительно не хотелось. Кроме того, меня постоянно клонило ко сну, но я трепетал при мысли, что, поддавшись искушению, окажусь в удушливой атмосфере трюма, под каким-нибудь гибельным воздействием, например угарного газа. Между тем бортовая качка подсказывала мне, что мы вышли в океан, а непрерывное гудение, доносившееся словно бы с огромного расстояния, убеждало, что разыгралась исключительной силы буря.
Августа все не было, и я терялся в догадках. Мы наверняка отошли достаточно далеко, и я мог бы уже подняться наверх. Конечно, с ним могло что-нибудь стрястись, но мне не приходило в голову ничего такого, что объяснило бы, почему он не вызволит меня из моего плена, – разве что он скоропостижно скончался или упал за борт. Но думать об этом было нестерпимо. Возможно, что нас задержал противный ветер и мы все еще находились в непосредственной близости от Нантакета. Это предположение, однако, тоже отпадало, ибо в таком случае судну пришлось бы часто делать поворот оверштаг, но оно постоянно кренилось на левый борт, из чего я с удовлетворением заключил, что благодаря устойчивому бризу с кормы справа мы не сходили с курса. Кроме того, если мы по-прежнему были поблизости от нашего острова, то почему бы Августу не спуститься и не сообщить мне об этом?
Размышляя таким образом о тягостях моего беспросветного одиночества, я решил выждать еще сутки, и если не придет помощь, то пробраться к люку и либо поговорить с другом, либо на худой конец глотнуть свежего воздуха через отверстие и запастись водой в его каюте. Так, занятый этими мыслями, я забылся глубоким сном, вернее впал в состояние какого-то оцепенения, хотя всячески противился этому. Мои сновидения поистине были страшны. Какие только бедствия и ужасы не обрушивались на меня! То какие-то демоны свирепого обличья душили меня огромными подушками. То громадные змеи заключали меня в свои объятия, впиваясь в лицо своими зловеще поблескивающими глазами. То передо мной возникали бескрайние, пугающие своей безжизненностью, пустыни. Бесконечно, насколько хватал глаз, вздымались гигантские стволы серых голых деревьев. Корнями они уходили в обширные зыбучие болота с густо-черной мертвой отвратительной водой. Казалось, в этих невиданных деревьях было что-то человеческое, и, раскачивая свои костистые ветви, они резкими, пронзительными голосами, полными нестерпимых мук и безнадежности, взывали к молчаливым водам о милосердии. Затем картина переменилась: я стоял один, обнаженный, посреди жгучих песков Сахары. У самых моих ног распластался на земле свирепый лев. Внезапно глаза его открылись, и на меня упал бешеный взгляд. Изогнувшись всем туловищем, он вскочил и оскалил свои страшные клыки. В следующее мгновение его кроваво-красный зев исторг рыкание, подобное грому с небесного свода. Я стремительно бросился на землю. Задыхаясь от страха, я наконец понял, что очнулся ото сна. Нет, мой сон был вовсе не сном. Теперь я уже был в состоянии что-то соображать. У меня на груди тяжело лежали лапы какого-то огромного живого чудовища… Я слышал его горячее дыхание на своем лице… его страшные белые клыки сверкали в полумраке.
Даже если бы мне даровали тысячу жизней за то, что я пошевелю пальцем, выдавлю хоть единый звук, то и тогда я не смог бы ни двинуться, ни заговорить. Неизвестный зверь оставался в том же положении, не предпринимая пока попытки растерзать меня, а я лежал под ним совершенно беспомощный и, как мне казалось, умирающий. Я чувствовал, как быстро покидают меня душевные и физические силы, я кончался, кончался единственно от страха. В голове у меня закружилось… я почувствовал отвратительную тошноту… глаза перестали видеть… даже сверкающие зрачки надо мной словно бы затуманились. Собрав остатки сил, я почти одними губами помянул имя господне и покорился неизбежному. Звук моего голоса, видимо, пробудил у зверя затаенную ярость. Он бросился на меня всей своей тушей; но каково же было мое удивление, когда он тихо, протяжно заскулил и начал лизать мне лицо и руки со всей пылкостью и самыми неожиданными проявлениями привязанности и восторга! Я был поражен, совершенно сбит с толку, разве я мог забыть, как по-особому подвывал мой ньюфаундленд Тигр, его странную манеру ласкаться. Да, это был он! Кровь застучала у меня в висках, то была внезапная, до головокружения острая радость спасения и возврата к жизни. Я поспешно поднялся с матраца, на котором лежал, и, кинувшись на шею моему верному спутнику и другу, облегчил мою отчаявшуюся душу бурными горячими рыданиями.
Поднявшись с матраца, я обнаружил, что мысли мои, как и в тот раз, находятся в полном помрачении и сумятице.
Долгое время я был почти не в силах сообразить, что к чему; лишь мало-помалу ко мне вернулась способность рассуждать трезво, и я припомнил кое-какие обстоятельства, связанные с моим состоянием. Правда, я тщетно пытался объяснить появление Тигра, строил сотни догадок на этот счет, но в конце концов был вынужден довольствоваться утешительной мыслью, что он здесь и будет делить со мной тягостное одиночество и утешать своими ласками. Большинство людей любит собак, но к Тигру я питал пристрастие более пылкое, чем обыкновенно, и, конечно же, ни одно животное так не заслуживало этого, как он. Семь лет он был моим неразлучным спутником и неоднократно имел случай показать всевозможные благородные качества, за которые мы так ценим собак. Когда он был еще щенком, я выручил его из лап какого-то зловредного мальчишки, тащившего его на веревке в воду, а три года спустя, будучи взрослым псом, он отплатил мне тем же, – спас от дубинки уличного грабители.
Нащупав часы и приложив их к уху, я обнаружил, что они снова остановились. Но меня это ничуть не удивило, потому что по своему болезненному состоянию я знал, что, как и прежде, проспал очень долго, правда, узнать, сколько именно, было невозможно. У меня начался жар, нестерпимо хотелось нить. Я стал шарить, ища кувшин, где оставался еще небольшой запас воды, – света у меня не было, так как свеча догорела до самого гнезда в фонаре, а коробка со спичками не попадалась под руку. Наконец я наткнулся на кувшин, но он был пуст; Тигр, очевидно, не удержался и вылакал воду и сожрал остатки баранины: у самого отверстия ящика валялась хорошо обглоданная кость. Испорченное мясо мне было ни к чему, но при мысли о том, что я лишился воды, я совсем пал духом. Я испытывал такую слабость, что меня трясло, как в лихорадке, при малейшем движении.
Вдобавок к моим бедам, бриг бешено кидало из стороны в сторону, и бочки из-под масла, которые стояли на ящике, грозили ежеминутно свалиться и загородить доступ в мое убежище. Кроме того, я ужасно страдал от приступов морской болезни. Эти соображения заставляли меня рискнуть во что бы то ни стало добраться до люка и просить помощи до того, как я окажусь не в силах вообще что-либо сделать. Утвердившись в этом решении, я принялся ощупью искать коробку со спичками и свечи. Коробку я нашел без особого труда, по свечей не оказалось там, где я думал (хотя я хорошо запомнил место, куда я их положил), и посему, отказавшись пока от поисков, я приказал Тигру лежать тихо и немедленно двинулся в путь к люку.
Во время этого путешествия моя слабость стала очевидной, как никогда. Каких трудов мне стоило ползти, руки и колени у меня то и дело подгибались, и тогда, в полном изнеможении упав лицом на пол, я лежал по нескольку минут почти без чувств. И все-таки я продвигался мало-помалу, думая лишь о том, как бы не потерять сознания в этих узких, запутанных проходах между грудами клади, в результате чего меня неминуемо ждала смерть. Собрав все силы, я рванулся вперед и больно стукнулся головой об острый угол обитой железом клети. Удар лишь оглушил меня на несколько мгновений, но, к своему невыразимому огорчению, я увидел, что сильная порывистая качка сбросила клеть поперек прохода и она совершенно загородила мне дорогу. Как я ни старался, я не мог сдвинуть ее ни на дюйм, поскольку она оказалась зажата среди всяких ящиков и предметов корабельного хозяйства. Поэтому, несмотря на слабость, мне оставалось либо, отойдя от бечевки, искать новый проход, либо перелезть через препятствие и возобновить путь по другую сторону клети. Первая возможность таила такое множество опасностей и трудностей, что о ней нельзя было даже помыслить без содрогания. Ослабевший телом и духом, я неизбежно заблужусь, если сделаю такую попытку, и обреку себя на гибель в мрачных лабиринтах трюма. Поэтому я без колебаний решил призвать на помощь остатки сил и воли и попробовать по мере возможности перелезть через клеть.
Я встал, чтобы осуществить свой план, но тут же увидел, что он потребует еще больших трудов, чем подсказывали мои опасения. В проходе по обе стороны клети громоздилась целая стена разной клади, и при малейшей моей оплошности она могла обрушиться мне на голову; если это и не случится сейчас, не исключено, что она завалит проход потом, когда я буду возвращаться, и образует такую же преграду, перед которой я стоял. Что до клети, то она была высокой, неудобной и решительно некуда было даже поставить ногу. Тщетно, чего-чего не пробуя, старался я достать до верха, в надежде затем подтянуться на руках. Впрочем, и к лучшему, ибо, дотянись я до верха, у меня все равно не хватило бы никаких сил перебраться через клеть. Наконец, отчаянно пытаясь хоть немного сдвинуть ее с места, я услышал, как на боковой ее стороне что-то дребезжит. Я нетерпеливо ощупал рукой края досок и почувствовал, что одна из них, весьма широкая, оторвалась от стойки. Орудуя перочинным ножом, который, к счастью, был при мне, я ухитрился после немалых трудов оторвать ее совсем; протиснувшись сквозь отверстие, я, к чрезвычайной своей радости, не обнаружил на противоположной стороне досок – другими словами, клеть была открыта, и я, следовательно, пролез через днище. Затем я без особых задержек прошел вдоль бечевки и достиг гвоздя. С бьющимся сердцем я выпрямился и легонько нажал на крышку люка. Она, против ожидания, не поддавалась, тогда я нажал более решительно, все еще опасаясь, что в каюте Августа находится кто-нибудь посторонний. Крышка, однако, оставалась неподвижной, и я встревожился, помня, как легко она открывалась раньше. Тогда я толкнул крышку посильнее – она сидела так же плотно, затем надавил со всей силой – она не сдвинулась с места, наконец, налег на нее в гневе, ярости, отчаянии – она не поддавалась никак. Крышка сидела совершенно неподвижно, значит, люк либо обнаружили и забили гвоздями, либо завалили каким-то тяжелым грузом, сдвинуть который я не мог.
Крайний ужас и смятение овладели мною. Напрасно пытался я рассуждать о вероятной причине моего заточения. Я не мог придумать сколько-нибудь связного объяснения и безвольно опустился на пол: мое мрачное воображение начало рисовать множество бедствий, ожидающих меня, и наиболее отчетливо – смерть от жажды, голода, удушья и погребение заживо.