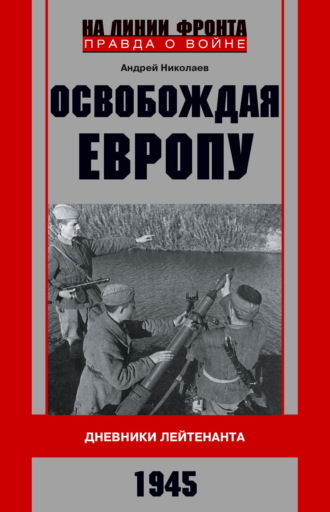
Полная версия
Освобождая Европу. Дневники лейтенанта. 1945 г

Андрей Николаев
Освобождая Европу. Дневники лейтенанта. 1945 г

Серия «На линии фронта. Правда о войне» выпускается с 2006 года

© Беретов А.И., 2023
© «Центрполиграф», 2023
© Художественное оформление серии, «Центрполиграф», 2023
От издательства
Николаев Андрей Владимирович (1922–2013), выдающийся русский художник-иллюстратор и еще философ, богослов, автор увлекательных воспоминаний, написанных по фронтовым дневниковым записям и сохранившимся письмам матери с фронта. Сразу после демобилизации в 1947 году Николаев поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на художественный факультет (художник-постановщик), окончил его с отличием, но работать по специальности не стал: «тянуло в книжную иллюстрацию».
В 1957 году был принят в Московский союз художников. За творческую жизнь Андрей Владимирович создал серии иллюстраций примерно к двумстам книгам из отечественной и зарубежной классики, современных авторов. Широкому кругу читателей известен как автор иллюстраций к «Войне и миру» Л.Н. Толстого, «Князю Серебряному» А.К. Толстого, «Пиковой даме» А.С. Пушкина, «Белой гвардии» и «Мастеру и Маргарите» М.А. Булгакова. В начале 1970-х годов написал в «стол» необычную серию евангельских эскизов. В советские годы ее невозможно было опубликовать и, конечно, выставить. Последний созданный художником цикл работ – «Каменья Истории» – портреты исторических деятелей, оставивших особый след в промыслительном многовековом пути России. А еще ждут своего читателя богословские, экзегетические труды Николаева.
Родился будущий иллюстратор в Москве. Детство прошло в Протопоповском переулке, тогда Безбожном. Отец Николаева – бывший офицер царской армии. Но особое влияние на воспитание ребенка оказал, как вспоминал Андрей Владимирович, «мой двоюродный дед – материн дядя – Осипов Александр Семенович, бывший поручик артиллерии, разносторонне образованный человек, говоривший свободно на семи языках и подрабатывавший под старость подстрочными переводами для наших литераторов. Дядя Саша, как я его звал, пробудил во мне интерес к истории и, в частности, к военной истории. Он приносил мне журналы и книги с картинками, таблицы военных форм Висковатого…».
Начинал Николаев свой жизненный путь, как многие ребята его поколения: выпускной бал по окончании десятилетки, и тут же – объявление о начале войны. Первый год – отсрочка и учеба в Московском художественном училище памяти восстания 1905 года у художника-мистика и педагога Антона Павловича Чиркова.
В мае 1942 года девятнадцатилетнего юношу Андрея Николаева, студента первого курса, призвали на службу в армию. Отправлен он был на учебу в Великоустюгское пехотное училище. Полгода интенсивной учебы в сообществе курсантов (бывших студентов и аспирантов в основном московских вузов) начали выковывать из мальчика мужчину. После получения погон лейтенанта – Волховский фронт, так называемый Смердынский мешок. Тяжелые и опасные фронтовые будни.
А потом опять учеба – направление на Академические курсы усовершенствования офицерского состава в Боровичах; с середины августа 1943 года до начала марта 1944 года. Но почти каждое воскресенье – театр с актерами из ленинградских драматических театров, или фильм в кинотеатре, роман с девушкой, а потом снова шесть дней сверхнапряженной учебы. 7 апреля 1944 года – снова на фронте. Распределен в 534-й армейский минометный полк, вскоре получил должность командира разведки полка. Для Андрея Владимировича командир полка Шаблий Федор Елисеевич, как и многие офицеры и солдаты полка стали близкими друзьями до конца жизни. Вначале полк на Волховском фронте, затем – на Карельском. От начала активных боевых наступательных действий, прорыва «Карельского вала», взятия Выборга, до победы над Финляндией и установления мира. Несколько месяцев полк простоял на границе с Финляндией. А дальше Европа… О чем и повествует эта книга.
В июне 1999 года, заканчивая военные воспоминания «Дневники лейтенанта», Андрей Владимирович Николаев резюмировал: «Эти одна тысяча четыреста семьдесят шесть дней военной жизни, тяжкого ратного труда, строевой и штабной службы сформировали меня физически и духовно, дали мне нравственную закалку, подлинное прозрение жизни и человеческих отношений. Я прошел через горнило войны совокупно со всем народом. Я не познал горечи отступления в сорок первом, но мера испытаний была определена мне Свыше по слабым моим мальчишеским силам…»
Издательство признательно Верстову Александру Ивановичу и Ковальскому Михаилу Сергеевичу за помощь в подготовке рукописи к изданию.
На переформировании
1 января 1945 года. В ясном утреннем небе над Выборгом встает солнце. Хрустит снег под ногами. А по земле идет уже первый день нового, тысяча девятьсот сорок пятого года – пятого года войны!
В штабе 23-й армии стоит полная тишина. И я вспоминаю анекдот:
– Какие в мире есть три невоюющие армии?
– Шведская, турецкая и 23-я советская!
По мягким ковровым дорожкам я, старший лейтенант Николаев, начальник разведки 534-го армейского минометного полка, иду на узел связи. Дежурные офицеры скучают у коммутаторов и на мой вопрос: «Есть что-нибудь новенькое?» – лишь отрицательно качают головой.
Выйдя на улицу из серого, мрачного здания штаба армии, иду бродить по заснеженному Выборгу. Жителей еще немного, но тротуары расчищены, и, позванивая, ходят небольшие канареечного цвета трамвайчики. Скуки ради, в который раз посмотрел «Жди меня». К вечеру вновь наведался на узел связи и вновь получил в ответ отрицательное покачивание головой. Неприятный осадок в душе, оставшийся после ночи, постепенно исчезал.
2 января. Вечером стало известно, что эшелон нашему полку подают завтра – 3 января, на станцию Антреа, отстоявшую от Энсо на 25 километров в сторону Выборга, куда полк должен прибыть своим ходом. Меня тотчас соединили со штабом полка, и я передал начальнику штаба полка Коваленко полученные мною сведения.
– Проверь отправку эшелона из Выборга, – услышал я в трубке спокойный и неторопливый голос Коваленко, – а сам до Антреа выезжай с машинами тылов. Да проследи, чтобы тылы прибыли ко времени.
3 января. Лишь к полудню караван тыловых машин и фургонов дотащился до места погрузки. Полк уже на товарных путях. Идет лихорадочная работа. Помпотех Богданов, с закушенной папиросой в углу рта, тут главная фигура. Его голос, хриповатый и резкий, властвует надо всем. Бегают и суетятся автотехники Гвоздев и Карпушин. Важно, как индюк, прохаживается Романов. Продефилировали куда-то начальник политотдела Куриленко с комсоргом Князевым. И лишь командир полка подполковник Шаблий стоит в стороне, ни во что не вмешивается и держит себя так, как будто все это его ни в какой мере не касается. Коваленко я нашел в штабном фургоне – он что-то все пишет. Рядом сидит начальник штаба первого дивизиона Вася Видонов, улыбается и поглаживает свой подбородок. Не отрываясь от бумаг, Коваленко спрашивает:
– Что скажешь?
– А что ему говорить? – Вася Видонов хмыкнул. – Он, как слышно, под Новый год заснул не вовремя.
– Ты-то откуда знаешь? – оторвался от бумаг Николай. – Он, может быть, в самое время заснул.
– Что правда, то правда, – сказал я, и мы, все трое, расхохотались.
– В своем вагоне был? – спросил Коваленко. – Твои вещи Микулин с Масловым забрали.
– Куда они денутся, вещи-то, – ответил я, вспомнив, что всех вещей у меня: шинель, вещевой мешок да связка книг. И всё.
– Тогда ладно, – сказал Николай Коваленко, ни к кому не обращаясь, и принялся за свои бумаги. Потом вдруг обратился ко мне: – Запомни, номер нашего эшелона – 11613.
– Так я же его знаю.
– Да, да, – засмеялся Николай, – ты ж его и караулил. Тогда давай проваливай. Не морочь нам голову, пока не понадобился.
Микулина, Маслова, Федорова я нашел в вагоне штабной батареи. На верхних нарах мне было забронировано место, как я и любил, сбоку, у окна. Нагулявшись досыта, я уснул под звуки ругани и паровозных гудков.
4 января. Погрузка машин и минометов продолжалась всю ночь и первую половину дня. Стоит страшный ор, матерщина, стучат кувалды по дереву, по железу, гудят паровозы. Вагон наш через регулярные промежутки времени толкают, подгоняя под резкие свистки сцепщиков очередную платформу эшелона к погрузочному трапу.
Тронулись мы лишь к вечеру и к ночи прибыли на окружную линию железнодорожного пути Ленинград – Москва. Тут в последний раз родственники наших ленинградцев пришли их провожать.
5 января. Эшелон № 11613 идет по линии железной дороги Ленинград – Москва. Наши офицеры, дежурные по эшелону и на паровозе, осведомлены о маршруте только лишь до следующей узловой станции и не далее. Только на станции Бологое стало очевидным, что цель ближайшего перегона – Москва. Покой был потерян.
6 января. Медленно, порой со скоростью пешехода, уступая дорогу пассажирским поездам, тащится эшелон по разбитым путям Октябрьской железнодорожной магистрали.
7 января. Стоим в Калинине. Разбитый город, разбитая станция, и все это припорошено новогодним и рождественским снегом. Странная человеческая особенность – привычка. Помнится, когда впервые увидели мы эти места, освобожденные от немцев, увидели сожженные города и деревни той же Ленинградской области, в окрестностях Гатчины и на Псковщине, увидели обездоленное, обнищавшее население, дотла сожженные поселки, одиноко стоящие обгорелые печные трубы, чувствам нашим мы не могли тогда найти словесного выражения. Теперь мы смотрели на те же самые «картины» всеподавляющей разрухи и понимали, что иначе и быть не может – война и есть война!
Когда-то, в первой половине XIX века, великий теоретик войны генерал прусской армии Клаузевиц провозгласил доктрину: «Война есть продолжение политики иными средствами» и что «война есть орудие политики». И вот, лежа на нарах товарного вагона и смотря в небольшое оконце на разбитый и сожженный город, который когда-то назывался Тверью и был столицей Тверского княжества, соперничавшего с Москвой, я думал о том, как мало стоят «человеческие ценности» и сам «человек» в той «политической игре», которую ведут люди себе же на забаву!
9 января. Два часа ночи. Эшелон № 11613 прибывает на станцию Лихоборы Окружной железной дороги города Москвы. Выскочив из вагона, я вижу, что паровоза нет. Бегу к дежурному по станции.
– Когда отправляемся?
– Когда дадут паровоз.
– А когда дадут паровоз?
– Неизвестно.
– Я москвич, – говорю я, чуть не плача, – мои дома ничего не знают. А я тут.
Тягостная пауза. Дежурный пристально смотрит на меня. И наконец говорит уже иным тоном:
– Да не раньше утра.
– А позвонить можно?
– Давай! – сказал дежурный и, махнув рукой, сел в свое кресло.
Звонил я долго и настойчиво. К телефону никто не подходил. Я было потерял уже всякую надежду, как вдруг знакомый голос в трубке, сонным и недовольным шепотом протянул:
– Алллоо!
– Танюшка! Здравствуй! Дорогая!
– Кто это? – услышал я. И нотки раздражения звучали на противоположном конце телефонной линии.
– Это же я. Я. Ты что, меня не узнала?
– О господи! Андрюшка?! Где ты?!
– В Москве. На станции Лихоборы. В дежурке.
– Так приходи домой.
– Не могу!
Трубку берет мать, потом тетка, потом дядя Сережа. Я говорю с ними подолгу – то с одним, то с другим. Дежурный по станции, пожилой железнодорожник с серебряными погонами на черном кителе, и молодая девушка в гражданском молча слушают нас и улыбаются. И никакого упрека, что я слишком долго занимаю служебный телефон на узловой станции. Со слов дежурного я объясняю матери и тетке, как проехать городским транспортом до Лихоборов. Дело в том, что трамваи, троллейбусы и метро начнут действовать только лишь с шести часов утра.
Невыносимо тянутся томительные часы ожидания. Ночь светлая, прозрачная, морозная. Горят огни стрелок и светофоров. А в небе холодным отсветом поблескивает диск луны. В белом полушубке, с сигнальным фонариком на пуговице, хожу я вдоль эшелона, прислушиваясь к похрусту снега под собственными валенками.
– Чё не спите, товарищ старшлейтенант? – окликает меня часовой, и я узнаю в нем Бадейкина.
– Да вот, жду. Может, мать подъедет – повидаться.
– Хорошо б, – улыбается Бадейкин. – А времячко-то сколь будет?
– Скоро шесть, – говорю я и выхожу за ворота.
В городе зажигаются неяркие фонари уличного освещения. На трамвайном кругу, позванивая, появляются первые вагоны и первые пассажиры. Вереницей по тротуару потянулся рабочий люд. Кто-то идет пешком, кто-то спешит сесть на трамвай.
«Моим добираться трамваем, поди, более часа, – рассчитываю я, – следовательно, здесь они могут быть не ранее семи, а то и в половине восьмого. Что же, наберемся терпения и будем ждать».
И я вновь начинаю ходить вдоль эшелона. В вагоне мирный храп и запах теплой испарины человеческих тел. Рыжего Бадейкина сменил незнакомый солдат, очевидно из огневиков. Иду вновь на трамвайную остановку и начинаю ходить вдоль какого-то забора по тротуару. Один за другим идут трамвайные вагоны и, сделав круг, удаляются в обратном направлении. Наконец, я вижу мать и тетку, выходящих из очередного вагона, – обе в потертых шубейках, в старых стоптанных ботах, в меховых шапочках, повязанных поверху дырявыми шерстяными платками, с большими сумками в руках. Я встречаю их, веду по путям к эшелону. Они с трудом поднимаются в вагон по приставной лестнице. В вагоне тепло, горит масляный ночник, дневальный топит печку. Понемногу все просыпаются, здороваются с матерью и теткой, идут умываться.
Тетя Лида оглядывается в непривычной для нее обстановке – она всем интересуется. Мать же ничего не замечает и смотрит только на меня. И меня это начинает угнетать. Маслов, Микулин, Куштейко, даже Федоров заводят с тетей Лидой разговор. Она реагирует весело, энергично, со смехом – окружающим это нравится. Появляется в вагоне командир батареи Миша Заблоцкий[1] и громогласно заявляет тете Лиде, что и он, и его отец, военный врач и участник войны четырнадцатого года, всегда были поклонниками таланта и голоса Сергея Петровича Юдина[2]. Тетя Лида в восторге. Она смеется и тоже громогласно начинает рассказывать о том, чем теперь занят дядя Сережа и какие партии готовит ее дочь и моя кузина – Таня.
Куштейкина Валентина разогревает на печке целую сковороду вчерашней каши, и наш замкомполка по строевой садится «снидать». Через довольно короткий промежуток времени он отдает пустую сковородку Валентине, срыгивает и выходит из вагона.
– Сколько же он ест?! – шепчет мне на ухо тетя Лида и смеется.
– Разве много? – спрашиваю я и тоже смеюсь.
– Неужели же и ты столько же ешь?
– Нет. Я столько не ем.
– А чем вас кормят? – интересуется мать.
– Принесут завтрак, увидишь.
– А это-то, что же, – шепчет мне тетя Лида, – перед завтраком слегка закусывал, что ли?
Мать распаковывает сумки: достает копировальную бумагу, машинописные ленты, карандаши, пачки писчей бумаги. Я спешу отнести эти подарки в штабную машину, чтобы обрадовать Коваленко и Нину Шаблий.
Вернувшись, я увидел на столике поллитровку и четвертинку «Московской», какие-то домашние гостинцы, которые они выделили из своего скудного карточного пайка. Ординарцы несут завтрак: котелок каши и чай. Но есть я не могу – гортань блокирует спазм.
– Ты что не ешь-то? – спрашивает тетка.
– Не хочу. Потом съем.
Мать и тетя Лида совсем освоились. Они рассказывают Маслову, Микулину и Заблоцкому о московской жизни, о том, как добирались до Лихобор, каким я был маленьким и что можно теперь получить дополнительно сверх обычного карточного пайка. Куштейко, смолотив и свой, и Валькин завтрак, сидит в отдалении, сонно покачиваясь и изредка рыгая.
На улице совсем уже рассвело. Вдоль эшелона прошел дежурный и оповестил, что подают паровоз, чтобы все были на месте и что эшелон пойдет по Окружной до станции Москва-3 Курской железной дороги.
Всей компанией – Заблоцкий, Маслов, Никулин и я – пошли провожать тетю Лиду до трамвайной остановки. Мать решила ехать со мной в эшелоне до Курского вокзала. Тетя Лида шла, опираясь на руку Миши Маслова, Заблоцкий шел рядом, и она с ними о чем-то оживленно говорила и громко смеялась. Проходя мимо платформы, на которой стоял автобус командира полка, мы увидели Федора Елисеевича в нижней рубахе с полотенцем в руках. Он готовился умываться, и Сашка Бублейник держал воду наготове.
– Здравствуйте, здравствуйте, мамаша, – улыбаясь, кричит Шаблий. – Сына повидали! Это хорошо! А за подарки вам спасибо!
Уехала тетя Лида, и мы возвращаемся в вагон. Через полчаса вновь прошел дежурный с вопросом: «Все ли на местах?» Раздался резкий свисток паровоза, эшелон дернулся и стал медленно набирать скорость. В открытые двери вагона мелькают станции Перерва, Каланчёвская. Эшелон идет над Рязанской площадью мимо Казанского вокзала, проходит под Новобасманным мостом и останавливается у Курского вокзала. В вагон поднимается Николай Коваленко.
– Теперь, мамаша, прощайтесь, – говорит он моей матери, – дальше вам ехать не положено. Эшелон теперь пойдет ходом.
Мать прощается с моими товарищами по вагону. Я вывожу ее на пассажирскую платформу через пути, прощаюсь с ней и возвращаюсь к себе в вагон. Она же стояла на платформе до тех пор, пока эшелон не тронулся, и все махала и махала нам вслед рукой.
Между станциями Серп и молот Нижегородской дороги и станцией Москва-3 Курской, эшелон шел медленно-медленно, то останавливаясь совсем, то снова дергаясь и клацая буферами. Я стоял в полуоткрытых дверях. Мелькает Андроников монастырь, Рогожская застава, начинается знаменитая Владимирка. Взгляд мой примечает двух идущих по путям женщин: что-то очень знакомое привлекло в них мое внимание. Эшелон идет совсем тихо и останавливается. Я оборачиваюсь и вижу: женщина помоложе смотрит на меня, улыбается и плачет.
– Ника! – кричу я и соскакиваю на землю.
Она бежит мне навстречу. Я обнимаю ее, целую. Она берет меня под руку, смеется, тяжело дышит.
– Ты совсем не изменился, – успевает только сказать мне, – я узнала через Юдиных, где ты.
Гудок паровоза, скрежет тормозов, клацанье буферов, состав трогается и набирает скорость. Мне кричат. Я судорожно целую Нику и бегу вдоль вагонов, протягиваю руки к поручням, солдаты подтягивают меня, и вот уже нога ощущает качающуюся петлю железной подножки. Я оборачиваюсь – Ника машет мне варежкой, а ее фигурка становится все меньше и меньше. Эшелон № 11613 набирает скорость. Сообщаю по телефону в свой вагон, что все в порядке. Но, отъехав не более километра, эшелон наш остановили, и он простоял до позднего вечера – видимо, не судьба была мне провести с милой Никой при встрече более положенной одной минуты.
Вернувшись в свой вагон, я лег на нары и заснул. Проснулся я от шума – солдаты гремят котелками, собираясь идти за ужином. В вагоне появился Заблоцкий – он давно уже не бреется, и небрежная поросль на лице превращается в солидную и окладистую бороду.
– Неужели мы все еще в Москве? – спрашиваю я.
– Нет, в Серпухове! А ты что? Проспал? – Заблоцкий смеется.
– Угу, – ответил, зевая, – я ж всю ночь глаз не смыкал.
– Товарищи командиры, – кричит Логинов, – на ужин! Каши в котелках на четверых.
Я достаю поллитровку «Московской» – подарок матери и тетки, кусок копченой колбасы и кусок сыра. Кашу из двух котелков вываливаем на общую сковородку, водку разливаем поровну по кружкам и выпиваем за то, чтобы наши родные дождались нашего возвращения. Закусили колбасой, сыром и кашей с общей сковороды. Много говорили, много шутили. И кто-то даже сказал, что сам слышал, будто в высших сферах готовится «Особая армия вторжения» и что мы едем именно на ее формирование. Само собой разумеется, что после моей бутылки «Московской» появилась еще одна, потом на столе оказался портвейн и даже бутылка сухого. Компания сильно захмелела, и всех теперь интересовал только один вопрос: Кто она?! Кем она мне доводится?! Почему пришла, и отчего никто до сих пор не знал о ее существовании?!
– Ты, Андрюха, хитрый парень, – Микулин пьяно щурится, – ежели б не этот случай, мы бы так и не узнали, какую невесту он от нас прячет!
– А я-то, я-то, – кричит сильно захмелевший Заблоцкий, – я так ее-то и не увидел. Ведь вот как получилось-то.
– Это что, мужики, – вертя длинной шеей, шепчет Коля Кузнецов, – комиссару-то нашему так по шее дали, чуть было в трубу не вылетел… Два раза в политотдел вызывали… Отстранить от должности… Ежели б не переезд этот – отстранили бы…
– Одного снимут – другого поставят, – сказал Миша Маслов, до того молчавший. – А другой не всегда бывает лучший…
– Слушай, комсорг, – еле ворочая языком и щуря глаза, заговорил Микулин, – Мишка прав… Один очень умный и старый еврей сказал очень умную вещь: «Всё в жизни ер-р-рунда…» или как там – «су-е-та»… Вот…
– Что за еврей такой? – как-то сразу обмякнув, спрашивает Кузнецов. – Из тыловиков наших, что ли?.. Я его знаю?.. А?..
– Нет, Николаша, – Заблоцкий весело хохочет, – ты его не знаешь!.. К твоему сведению, товарищ комсорг, этот еврей был не из наших тылов, а из тылов значительно более дальних… И имя ему было Соломон…
Капитан Микулин, откинувшись на нарах, храпел и ничего уже не слышал. Маслов полез укладываться. Коля Кузнецов, цепляясь за стенки вагона, шел в противоположный конец к своему месту. Заблоцкий, пользуясь остановкой, побежал в свой вагон.
10 января. Утром в Туле опохмелялись пивом и ели мороженое.
11 января. Проезжаем Орел и Курск.
12 января. Льгов.
13 января. Киев. Впечатление удивительно однообразное: вокзалы разрушены – одни больше, другие меньше. Ведутся восстановительные работы, а трудятся бабы, девчонки, дети да инвалиды. Торговки предлагают шаньги, ватрушки, лук, молоко.
Леса постепенно уступают полям и перелескам, а поля переходят в сплошные степи. И вот потянулся типичный украинский или малороссийский пейзаж.
14 января. Прибыли в Житомир. Началась разгрузка эшелона. Тут совершенно иной ритм и иные темпы, нежели там – на севере, в Финляндии. Тут во всем ощущается большая напряженность военной атмосферы. Комендант станции не дает нам минуты покоя – торопит и торопит с разгрузкой. За нарушение графика выгрузки грозит трибуналом.
– У меня через этот узел идет не один ваш эшелон! – кричит он простуженным, трескучим голосом, озираясь воспаленными до красноты глазами. Мы понимаем его. Но существует объективная реальность, которую никто не в силах ни обойти, ни подогнать, ни ускорить.
15 января. Лишь где-то под утро, на часы не было время смотреть, полк выгрузился, и конфликт с комендантом станции был исчерпан.
Наши машины, довоенные ленинградские газики, видавшие виды на Ладожской трассе, на Псковщине и в Карелии, еле-еле держатся на ходу. Тарахтят, дребезжат и глохнут – чувствуют, видимо, механическим своим «сердцем», что осталось им трудиться считаные дни. Только вот именно теперь требуется им проявить чудеса «трудового героизма» и оттащить полк подальше от места выгрузки из эшелона. А сделать это не так-то просто в тех самых условиях, в которых мы теперь оказались.
Дорога от станции Житомир-Товарная до Житомирских учебно-артиллерийских лагерей – ЖУАЛ – протяженностью в пятнадцать километров занесена снегом, не чищена, вся в колдобинах, ухабах и наледях. Сплошное месиво из снега и земли. Тут же в колеях валяются бревна, доски, куски брезента, обломки окон и дверей – все, что военная шоферня волокла с собой, чтобы в нужный момент подбросить под буксующие скаты машины. Ни о каких бульдозерах или тракторах нет тут и речи.
Пока полк пробирается по ухабам и колдобинам, выволакиваемый силою солдат и матерщиной Богданова и шоферни, управление и штаб полка во главе с его командиром отправились на одной из головных машин осматривать лагерь. То, что мы увидели, представляло собой картину огромных размеров варварского и беспорядочного погрома.
Среди высокого соснового леса размещены бревенчатые бараки, минимум на сотню человек каждый. Двери в бараках выломаны, стекла в окнах выбиты, нары раскиданы, железные печи изуродованы. Шаблий, Коваленко и все прибывшие в молчании осматривали развороченный лагерь.
– Как думаете, товарищ майор, – обращается командир полка к своему замполиту, – размещать людей в таких бараках?
– Упреждя усяго надыть людям объяснить, – нравоучительно начал было Куриленко. Но Шаблий его перебил:







