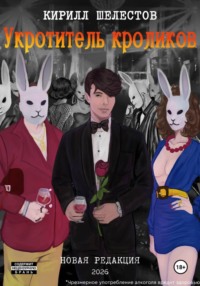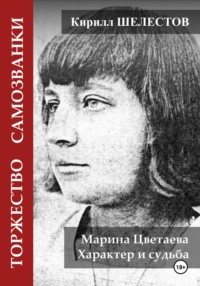Полная версия
Смерть Отморозка
–Да. Спасибо. Хотя, знаешь, я не уверена, что всегда хотела бы знать правду.
«Тогда лучше не спрашивать»,– подумал он, но вслух этого не сказал.
* * *
Как-то в спортивном лагере в палатке пловцов стали пропадать вещи из тумбочек. Воровали все подряд: продукты, привезенные родителями, сувениры и дорогие игрушки, не брезговали и мелочью, вроде значков и блокнотов. Ребята начали следить друг за другом; возникла неприятная атмосфера взаимной подозрительности.
Старшие организовали собственное расследование. Собирать улики и анализировать факты у них, разумеется, не хватало ни терпения, ни ума, все-таки они были спортсменами, а не сыщиками. Они предпочитали действовать силовыми методами: отзывали в лесок кого-нибудь из младших и там допрашивали с пристрастием. Наступила очередь и Павлика, которому в ту пору исполнилось одиннадцать лет, и он входил в младшую группу.
Трое парней отвели его на облюбованную ими опушку. Саня Пантюхин, высокий широкоплечий шестнадцатилетний перворазрядник, сел на пенек, двое других – на поваленное дерево. Павлик остался стоять, сильно волнуясь. Мальчики из его группы рассказывали ему про эти допросы; их там били, некоторые возвращались в слезах.
–Ты слышал о том, что у нас завелась крыса? – жуя травинку, лениво начал Пантюхин.
Он был очень сильным парнем, дельфинистом, пользовался авторитетом и у тренеров, и у ребят; Галька всегда назначала его ответственным за разминку, а иногда даже поручала провести тренировку целиком. Мальчики из младшей группы, в которую входил Норов, его не любили за командный тон, резкость и тычки, которые он раздавал направо и налево. Между собой они звали его Пантюхой.
–Слышал,– ответил Норов.
Он был натянут, как струна, и чувствовал, как колотится сердце.
–Ну, и что ты об этом можешь нам сказать?
–Ничего.
–Плохо, блин, что ничего,– проговорил Пантюха и сплюнул.– А может, это ты воруешь?
Сидевшие на дереве, впились в Норова взглядами, желая смутить. Павлик знал, что за этим обвинением последуют побои, так было с другими мальчиками. Он внутренне сжался.
–Я не ворую! – выговорил он.
Пантюха поднялся с пенька и стукнул его.
–Лучше признайся по-хорошему! – проговорил Пантюха тоном, не предвещавшим ничего хорошего. – Где то, что ты стырил?
–Я не брал! – выкрикнул Павлик, отступая.
–А кто брал?
За этим вопросом последовала новая затрещина. Норов еще попятился.
–Ты! – вдруг с ожесточением выпалил он неожиданно для себя.
Пантюха остолбенел.
–Ты меня что ли обвиняешь?! Меня?!
–Тебя! Ты вор и трус!
Норов и сам не понимал, что выкрикивал от ненависти и страха.
В следующую секунду он уже валялся ничком, а Пантюха, сидя на нем, рывками впечатывал его лицо в жесткую неровную землю, прикрытую редкой травой.
–Ты знаешь, что я с тобой за такие слова сделаю?! Ты у меня землю жрать будешь!
Было больно, рот был полон земли, но Норов молчал.
–Кончай, Сань, а то он Гальке вложит, – предостерег один из ребят.
–Пусть только попробует! Я ему глаз на жопу натяну.
Он отвесил Норову еще один подзатыльник, потом все-таки слез с него. Норов поднялся, стараясь ни на кого не глядеть. Лицо его было измазано землей. К щеке, к испачканной футболке и трусам пристали желтые колкие стебельки пожухлой травы; при падении он оцарапал коленку. Он отряхнулся, стараясь не расплакаться, и двинулся в сторону лагеря.
–Ты куда? – крикнул ему вслед Пантюха.– Стой! Я тебя еще не отпустил!
Норов не ответил и не обернулся.
В палатку, где его ждали мальчики из его группы, он не вернулся. Вместо этого он отправился в камеру хранения, куда ребята по приезду сдавали чемоданы. Сказав, что ему нужно переложить кое-что из белья, он получил свой чемодан, вышел с ним наружу, перелез в укромном месте через забор и пошел из лагеря.
Он не думал о том, что побегом усугубляет подозрения, он вообще ни о чем не думал; он действовал, подчиняясь безотчетному инстинкту. Оставаться в лагере после пережитого унижения он не мог. Отомстить Пантюхе было не в его силах; а ежедневно встречать его, презрительного и безнаказанного, подчиняться его командам, было для него нестерпимо.
Под палящим солнцем, с тяжелым чемоданом в руке он преодолел три с лишним километра, отделявшие лагерь от железной дороги. И потом, обливаясь потом, еще четыре километра тащился по шпалам до ближайшей станции.
Неудобной ручкой он стер себе ладони до крови; приходилось поминутно перекладывать чемодан из руки в руку, но кисти уже не держали, пальцы разгибались. Он пытался нести его, взяв в охапку, но не получалось; он пробовал двигать его по рельсам, – чемодан срывался и падал.
Наконец, выбившись из сил, мокрый и измученный, с содранными саднящими ладонями, он добрался до станции. Денег на электричку у него не было, но он надеялся как-нибудь прошмыгнуть в вагон. Он хотел одного: уехать домой, подальше от этого позора, этой грубости и подлости: никогда не видеть ни наглого Пантюху, ни Гальку, его поощрявшую, ни других ребят, это терпевших.
* * *
Но первыми, кого он встретил на станции, были именно Галька и Пантюха. Они стояли на перроне, у самого входа; высокая, крупная мужиковатая тренерша и высокий, широкоплечий самоуверенный Пантюха. Они приехали с водителем, на стареньком газике, который возил в лагерь продукты и почту. Норова хватились быстро; кладовщица доложила, что он забрал чемодан и не вернулся; Галька собрала ребят; Пантюха поведал о допросе, естественно, скрыв некоторые подробности, и они бросились в погоню.
Галька смотрела на Норова хмуро, Пантюха – с нескрываемым злорадством. Он не сомневался, что разоблаченный Норов попытался скрыться и вот – попался.
–Пойдем, – мрачно скомандовала Галька Норову и первой двинулась к газику.
Норов побрел за ней с чемоданом; Пантюха замыкал шествие, не сводя с него торжествующих глаз. Он даже разок подтолкнул его в спину.
Галька подошла к машине и открыла заднюю дверь.
–Ставь чемодан! – велела она.
Павлик поставил чемодан на сиденье, обшитое потрескавшейся черной кожей.
–Открывай!
Павлик открыл чемодан. Галька собственными руками перерыла все его вещи. Затем повернулась к Пантюхе.
–Ну?! – грозно выдохнула она.– Где?
Пантюха из-за спины Норова следил за обыском. То, что украденных вещей в чемодане не оказалось, его поразило. Не отвечая Гальке, он отпихнул Норова в сторону и, подавшись вперед, сам принялся рыться в его вещах. Галька ждала.
Спиной ощущая ее тяжелый взгляд, Пантюха вновь и вновь перетряхивал нехитрый норовский скарб.
–Ты говорил, он украл! – прокурорским тоном напомнила Галька.
Пантюха выпрямился, боясь посмотреть ей в глаза.
–Видать, спрятал,– растерянно предположил он.
–Где спрятал?
Грубое лицо Гальки было таким мрачным, что даже Норову сделалось не по себе.
–Это у него нужно спросить,– нашелся Пантюха.– Хотите, мы с ребятами с ним еще потолкуем…
–Заткнись! – отрезала Галька.– Норов, марш в машину! А ты хватай его чемодан и топай пешком в лагерь! Дуня с мыльного завода!
Эвфемизмов, заменяющих бранные слова, в небогатом лексиконе Гальки было немного; «дубль» был у нее самым частым. «Дуня с мыльного завода» произносилось в крайних случаях и звучало как прямое оскорбление.
–Галина Николаевна! – взмолился Пантюха.– Я-то причем? Он же сам из лагеря дернул!
Галька взглянула на него так свирепо, что он осекся. Дождавшись, пока Норов залезет на заднее сиденье, она взобралась следом. До самого лагеря она смотрела в окно, молчала и хмурилась. Норов трясся рядом, радуясь, что не нужно больше тащить чемодан, и размышляя о том, каким образом Пантюха будет ему теперь мстить. В том, что Пантюха непременно будет мстить, он не сомневался.
–Почему ты мне ничего не сказал? – сердито спросила Галька.
Норов только пожал плечами. А что он мог ей сказать? Что Пантюха со старшими ребятами его допрашивал и бил? Или что он не крал?
–Вечно именно с тобой все случается! – упрекнула Галька.
Норов виновато понурился. Он и сам это сознавал.
–Знаешь почему?
Норов молча помотал головой.
–Потому что ты нарываешься! – заключила Галька.
Норов не считал, что он нарывается, но спорить, конечно, не стал, его положение и без того было незавидным. Побег из лагеря был серьезным проступком; Норову за него светило как минимум десять километров кросса, двести отжиманий и внеочередное дежурство по палатке, а, может, и пара. Галька вообще могла в сердцах влепить и целую неделю.
И все же он испытывал к этой большой грубой женщине такую благодарность, что ему хотелось прижаться виском к ее сильному круглому загорелому плечу, выглядывавшему из короткого рукава футболки. Но он, конечно, скорее сгорел бы со стыда, чем сделал это; он никогда не позволял себе подобных нежностей даже с матерью. Вернее, мать никогда ему этого не позволяла.
–Сколько отсюда до станции? – спросила Галька у водителя, когда они подъезжали.
–Да, считай, километров восемь, – ответил тот.– Вроде того.
Галька посмотрела на Норова.
–Восемь километров с чемоданом! – хмыкнула она.– Ну ты даешь! Дубль. Ты бы на тренировках так пахал!
И неожиданно для Норова она положила свою тяжелую руку ему на затылок и примяла непокорный хохолок на его макушке, как после заплыва на соревнованиях.
–Кит,– проворчала она.
Ни Галька, ни Пантюха, ни Норов никому ничего не рассказывали о случившемся. Из своих помощников Галька Пантюху убрала, но ничем другим нерасположения к нему не показывала. Норову он, к слову, не мстил, возможно, Галька его предостерегла; он демонстративно Норова не замечал и не разговаривал с ним. Галька к Норову по-прежнему была строга и придиралась на тренировках чаще, чем к остальным.
* * *
Норов развивался быстрее своих сверстников и умственно и физически. Когда ему исполнилось двенадцать, он за одно лето вытянулся так, что Галька стала ставить его, как самого высокого, первым на разминках на суше. Под ее суровым руководством он к тринадцати годам подошел ко второму взрослому, что для его возраста было совсем неплохо.
Однако на следующий год он прибавил лишь полтора сантиметра, в то время как ребята вымахали сантиметров на шесть-семь и не собирались останавливаться. Второй взрослый он все-таки выполнил, но из «направляющего в строю» откочевал в середину, затем и вовсе сделался замыкающим. Все остальные в группе были уже выше его на целую голову. До него еще не дошло, что теперь на один гребок своих товарищей, с их длинными руками, ему приходится делать полтора; он просто вдруг почувствовал, что выигрывать соревнования стало гораздо труднее.
Тренировались они каждый день, а во время школьных каникул переходили на двухразовые тренировки: утром и вечером. Бассейн был постоянно переполнен, старшие и младшие группы занимались совместно, человек по восемь на дорожке. Однажды средняя группа, в которой теперь был Норов, завершала тренировку, а взрослые спортсмены из сборной, закончив разминку на суше, начинали в воде. Норов, усталый, дотягивал последнюю сотку комплекса брасом, и тут на его дорожку прыгнул с бортика длинный, плечистый парень, полный сил. Он шел баттерфляем; не поднимая головы и не вдыхая, он в четыре гребка догнал Норова и обошел.
Он двигался в воде мощно и ладно, как огромная сильная рыба, «как кит»; волна, поднятая им, подхватила Норова и как будто немного снесла назад. Норова будто ударило током. В одну секунду он вдруг с пронзительной и обидной ясностью осознал свою физическую неполноценность. Он отдал этой проклятой хлорированной холодной безжизненной воде шесть с половиной лет, и если после всех усилий его, плывущего, просто сносило чужой волной, как щепку, как бумажный кораблик, – значит… значит, это не для него! Значит, ему нечего тут делать.
Это была его последняя тренировка; плаванье для него закончилось.
Через неделю Галька прислала к нему ребят из группы, выяснить, в чем дело. Сначала он хотел соврать, что заболел, но потом, набравшись духа, сказал, что плаваньем он больше заниматься не будет. В ответ на их удивленные расспросы, он, потупившись, объяснил, что понял, что не подходит для плаванья по физическим параметрам. Добиться он ничего не может, даже КМС не станет, а ходить просто, чтобы воду молотить, он смысла не видит.
Через два дня мальчик из группы принес ему записку в запечатанном конверте без марки, сообщив, что от Гальки. Сверху крупным старательным почерком было написано «Павлику», – она никогда не называла его так. Он ответил мальчику, что прочтет позже, но он не прочел. Он не смог вскрыть конверт, ему не хватило мужества.
С тех пор он возил записку с собой, сорок лет, не в силах ни выбросить, ни прочесть. Конверт лежал в его петербургской квартире, среди множества бумаг, с которыми он не знал, что делать, и каждый раз, когда он на него натыкался, его обжигало давнее чувство вины.
* * *
Спал Норов мало, вставал очень рано; безмолвные темные предрассветные часы с трех до шести были его любимыми. Накануне он заснул позже обычного, – приезд Анны разбередил его; но на ранний подъем это не повлияло.
Его повседневная жизнь подчинялась расписанию; в разные периоды оно менялось, но привычка к порядку оставалась. Теперь, когда ему не нужно было ездить на службу, он жил так: пробуждение, просмотр почты и работа с серьезными книгами,– выписки, заметки; первый завтрак, прогулка с музыкой, второй завтрак; спорт, обед, опять работа с книгами; вечерняя длинная прогулка с прослушиванием аудиокниг уже полегче, – мемуаров, биографий; чашка чая, карточные пасьянсы на ночь, – он разбирал их в планшетке, уже в постели; пятичасовой сон. Во второй половине дня он практически не ел, он вообще ел мало, как и спал.
В быту он соблюдал правила, к которым мать приучила его с детства: холодный душ, ежедневная смена белья, порядок в вещах и на рабочем столе. Брился он теперь, правда, лишь раз в три дня; при нынешней моде это было совершенно прилично, но его матери это не нравилось, и перед встречами с ней он всегда тщательно выбривался.
Гулял он каждый день, несмотря на погоду; выходил еще до рассвета, а возвращался уже после восхода. Как правило, он сначала поднимался в гору, примерно с километр по узкой асфальтовой дорожке, с одной стороны от которой угрожающе нависала неровная каменная скала, а с другой – круто убегал вниз склон холма, закрытый редкими деревьями и густыми кустами. За холмом был другой холм, и там – еще один, и на нем дальними желтыми огоньками светился Кастельно.
Когда он вышел в холодную влажную темноту, небо было черно-лиловым, глубоким, сплошным и беспросветным, каким оно часто бывает по ночам в марте и апреле. Невозможно было разглядеть пальцы вытянутой руки; он ступал наугад, но фонарика все равно не зажигал. Невидимая дорога под ногами была неровной, но он знал ее и чувствовал, и двигался уверенно.
Перед самым выходом из дома, он надевал наушники, выбирал в своих записях классической музыки какое-нибудь произведение, включал и, открыв дверь, нырял в эту густую музыкальную темноту, как в бескрайнюю стихию, как в тайну. Он сливался с ней, растворялся в ней, бездонной, наполненной музыкой, и плыл в ней свободно, как кит. Это было особое непередаваемое ощущение, глубокое, волнующее – мистическое. Сегодня он поставил третью симфонию Брамса, драматичную, но мажорную.
Наверху узкая дорога пересекалась с другой, более широкой, автомобильной. Можно было свернуть налево, и, описав длинный круг через лесопилку и Кастельно, вернуться домой, или нырнуть направо, на тропинку, проложенную специально для рандонистов, – любителей лесных прогулок – и двигаться между деревьев по склону холма. Когда светало, оттуда открывался завораживающий вид на окрестности. А еще можно было пересечь трассу и по петляющей узкой дорожке брести между лесов, виноградников и полей к развалинам старинной часовни и маленькому кладбищу. Здесь были бесконечные возможности для прогулок, и каждый раз он выбирал маршруты, как музыкальные произведения.
Сегодня он свернул направо, в лес. Под утро температура опускалась, сейчас было не больше пяти градусов, на нем была теплая куртка и легкая шапка бини. Зачем она прилетела, Кит? (В бесконечных мысленных диалогах и спорах с собой он обращался к себе так, как когда-то называла его Галька.) В ней чувствуется какое-то волнение, особое напряжение, будто она хочет что-то сказать, но не решается. Что именно, Кит? Не знаю, как будто, что-то важное… Важное? У нее есть тайны, Кит? От тебя? Это что-то новое. Она действительно всегда была ясной душой, не очень тонкой, но прямой, без двойного дна, может быть, даже без особой глубины. Когда-то ты знал ее наизусть. Да, но прошло много времени, она могла перемениться… Кто, Анна? Ну, нет, Кит, только не она. «Снегвсегда!».
После ее замужества ты оборвал переписку с ней. Не простил Гаврюшкина? Да, стыдно признаться, но не простил… Почему стыдно, Кит? Потому что не сумел простить. А почему не простил? На то были причины… Какие, Кит? Только честно? Я любил ее. Ты ее любил? Правда? Да. Еще как! Может быть, иначе, чем ей хотелось, – не как женщину, но как самого близкого друга, как младшую сестру, даже немного, как ребенка, как дочь.
Постой, Кит. Но ведь ты ушел от нее, бросил. Уехал в свой Питер и – Лыской звали! Так, кажется, выражалась одна из твоих домработниц? Пишите письма. Я уехал, потому что между нами начался интим! Если, конечно, можно назвать интимом то, что между нами тогда происходило в постели. Она лежала подо мной, неподвижная, одеревенелая, скованная. Не женщина, не любовница, а голый, худой персональный помощник, на которого зачем-то залез озверелый начальник. Да еще смотрела на меня своими ясными круглыми глазами. Никогда этого не забуду! Любой бы сбежал!
Зачем же ты это начинал? Да не я начинал, не я! То-то и оно, что эта дурацкая постель была мне совершенно не нужна! Я уклонялся, сколько мог, но ей так хотелось быть вместе везде, всегда! Она не понимала, что этим все ломает. Сближаясь, разрушает… Она любила тебя, Кит. Да, знаю… любила… Как было этого избежать? То и плохо, что два любящих человека не сумели остаться вместе. Плохо и глупо. Черт!…
На западе уже появился легкий просвет, серо-розовое сияние, будто кто-то медленно поднимал тяжелую черную глухую завесу. А на противоположной стороне неба, на востоке, ширилась и разгоралась рваная оранжевая полоса; поднималось солнце.
Ты был старше нее на пятнадцать лет, Кит, и в тысячу раз опытнее. Ты мог бы проявить терпение, пробудить в ней чувственность… Если, конечно, в ней она имелась! Ты сомневаешься в этом? Очень. Ну, во всяком случае, ты был обязан попытаться, а ты не пытался. Не пытался, правда. Это же было после уголовного дела и отставки… Внешне я держался, но по сути был тогда лишь мешком с костями. Мешком с переломанными костями, – ни чуткости, ни нежности. Это был тяжелый период, больной. У меня о нем сохранились смутные воспоминания, разрозненные, ватные. Только некоторые сцены встают в памяти с необычайно яркостью. Хотя, пожалуй, лучше бы вовсе не вставали…
Но уехав от нее, Кит, бросив ее по-свински, ты избавил ее от всяких обязательств перед собой, не так ли? Не совсем. У нее с самого начала не было передо мной никаких обязательств. У меня были, у нее – нет. Так я это в ту пору понимал. Тогда почему ты ей не простил? Почему? Да, Кит, почему? Потому что с тех пор у меня не было женщин. Ни одной, даже случайно. А она преспокойно вышла замуж за Гаврюшкина и родила от него. А теперь оставим эту тему, я больше не хочу ее обсуждать!
* * *
Небо на Востоке уже сделалось малиново-ярким, тонкими контурами проступили на его фоне высокие редкие ветвистые деревья на далекой горе, словно нарисованные китайской тушью.
Эти ежедневные рассветы всегда были разными, порой они наполняли его особым вдохновением, сродни религиозному. Бог был в этом потрясающем малиновом небе, в мощно поднимающемся оранжево-красном солнце, в лиловой уходящей темноте с угасающими бледными звездами, в этих неповторимых красках, в пронизывающей музыке и чуть доносившихся сквозь нее голосах птиц.
Он пытался фотографировать эти рассветы, но камера не вбирала всю эту невозможную музыкально-цветовую палитру: от нежной, сладкой, щемящей, шопеновской пастели на востоке до потрясающей ослепительной и оглушительной бетховенской меди на западе. Объектив терялся в километрах перспективы, не видел границ между холмами, не улавливал бесчисленных переходов цвета.
Яркая охра открытой земли, золотые волнуемые ветром поля, вздымающиеся по склонам; геометрически-ровные ряды причудливо изогнутых зеленых виноградников; красные маки в зеленой траве среди бело-серых камней; серебристый утренний иней на длинных стеблях травы и музыка, музыка!…– все это куда-то безнадежно исчезало с фотографий.
Он пробовал рисовать, даже брал уроки живописи у старого чудаковатого тощего англичанина, жившего в Кастельно. Тот хвалил его пейзажи, уверял, что у него большой талант, но он знал про себя, что это не так, что подлинного таланта у него нет.
Подлинного таланта у него, кстати, не было не только к живописи. У него его вообще не было. Это стало для него запоздалым открытием, огорчительным, но уже не мучительным. Пойми он это в молодости, он бы расстроился. Ведь он когда-то был честолюбив. Впрочем, о подвигах он мечтал больше, чем о славе. Многие не видят между этим разницы: Блок писал: «О доблестях, о подвигах, о славе», – для него это было едино. На самом деле, это как отдавать и брать. Норову в детстве и юности хотелось отдать жизнь за что-то высокое. Он был бы счастлив, если б это удалось. А слава… что слава? Он бы все равно ее уже не узнал. Но не удалось, жаль. Хотя, честно говоря, не особенно. Ибо сейчас, на пороге старости, он был счастлив, полным тайным счастьем. Непоследовательно, Кит. Да, действительно… но что поделать? Человеку тесно в тисках логики.
Прежде, когда он был богат, у него были долгие периоды бешеных загулов; он брал в постель по две, три, четыре женщины. Целомудрие пришло вместе с одиночеством; одиночество принесло покой и глубокое сокровенное счастье. Он привык к уединению, чистоте и счастью, он дорожил ими.
Восход сегодня был ярким, это означало скорую перемену погоды, сильный ветер, частый в этих краях. Раньше ветра навевали на него тоску и гнетущее давящее чувство вины, которое мучило его много лет.
Но в последние годы он начал выздоравливать; с наступлением ясных солнечных дней к нему возвращалось веселое расположение духа и любовь к жизни.
Он был беден в юности, швырял деньгами в молодости; он влюблялся и был любим; он кое-чего добился и многое потерял, – он ярко жил. Он был остро счастлив когда-то и оставался спокойно-счастлив сейчас, в наступающей старости. Он любил свои одинокие прогулки, рассветы и закаты, лесные запахи и шорохи. Любил книги, музыку, пение птиц, красоту соборов и лиц, долгие размышления. Любил спорт: бегать, подтягиваться, поднимать тяжести, боксировать.
Из этой, столь дорогой и любимой им жизни он хотел уйти добровольно и свободно; со вкусом счастья на губах, – не с горечью лекарств.
У него был пистолет, «глок», купленный по случаю в Монпелье у знакомых арабов, за большие деньги. Здесь он хранил его в спальне, в рюкзаке. Перед отъездом, он упаковывал его в герметичный пластиковый пакет и прятал в лесу, под развалинами заброшенного строения в паре километров от дома.
Он собирался застрелиться здесь, во Франции. Он не ставил себе определенных сроков, он мог сделать это в любую минуту: через неделю, завтра, сегодня вечером. Тем сильнее ему хотелось еще немного постоять на краю, насладиться, надышаться. Готовность к смерти делала любовь к жизни необычайно острой.
Глава пятая
Когда Норов вернулся, Анна уже сидела на кухне на высоком табурете в длинном светло-сером свободном платье из мягкой ткани, придававшим ей домашний вид, и пила чай. Большой стол был сервирован для завтрака на двоих: тарелки с приборами, салфетки, аккуратно порезанные фрукты, сыр и хлеб, коробочки с йогуртом, конфитюр. Норов почувствовал безотчетное беспокойство старого холостяка, не любившего мыть посуду. Продукты он сам покупал накануне ее приезда, но привык обходиться минимумом тарелок.
–Привет,– улыбнулась она.– Я тут похозяйничала, ничего? Будешь завтракать? Сделать яичницу?
–Спасибо, я и этого-то за день не съем.
Раньше она не умела готовить и вообще была лишена хозяйственных навыков. Ее домовитость, новая для него, очевидно, была результатом ее семейной жизни. Он почувствовал легкий укол запоздалой ревности, устыдился, подошел и поцеловал ее прохладную в щеку.
–А ты совсем не полысел! – весело заметила она.– Зря только на себя наговариваешь.
Он провел рукой по очень коротко остриженной голове.
–Густая шевелюра,– хмыкнул он.– Одна беда – волосы в глаза лезут.