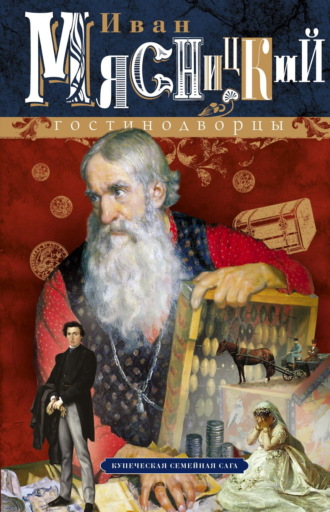
Полная версия
Гостинодворцы. Купеческая семейная сага
Аршинов скосился на Арину Петровну и ухмыльнулся.
– Совсем другая баба стала в наряде-то.
– Я всегда такая.
– Ну, это твое мнение, а мое мнение совсем другого сорта… Все у тебя готово?
– Все. Стол накрыт…
– Стол до тебя не касается, это кондитерское дело… Чай, фрукты?..
– Все готово.
– То-то. У меня чтоб ни в чем не было задержки. А Иван? Где он?
– Ваня все время был дома… Час тому назад я видела, как он по саду бродил…
– Пришел в себя?
– Да чего же ему приходить? Человек как человек.
– Э-эх, – досадливо махнул рукой Афанасий Иванович, – ничего ты не понимаешь!.. Поди и вели прислать его ко мне… да, постой!.. Вот еще что! – проговорил он, поглаживая бороду. – Вынь-ка на всякий случай образ из божницы…
Арина Петровна затуманилась.
– Значит, решил окончательно? – упавшим голосом спросила она мужа.
– Это что еще за глупый вопрос? Что решил?
– Благословить… Ваню… с Алеевой…
– Во всяком случае…
– Афанасий Иваныч, хорошо ли ты обдумал, какое дело хочешь совершить?
Афанасий Иванович вспылил:
– Не у тебя ли ума стану занимать? Опоздали-с, Арина Петровна… мне, слава богу, чужого ума, да еще бабьего, теперь не нужно… Извольте делать, что вам говорят, а рассудить мы и без вас рассудим…
– Бог с тобой, делай как знаешь, Афанасий Иваныч, но только помни: и за счастье, и за несчастье своих детей ты один виновен будешь…
– Не раздражай ты меня… Слышал я это все от тебя не раз, следовательно, пора и бросить… Пошли ко мне Ивана!
Арина Петровна вздохнула и с поникшей головой вышла из кабинета мужа.
Афанасий Иванович прошелся несколько раз по комнате, сел за письменный стол, щелкнул косточками счет и, вскочив с места, снова зашагал по кабинету.
– Проклятые бабы! – выругался он. – Возьмут да и испортят расположение духа. Тьфу! Дурь все это, глупость, книжки окаянные, – плевка не стоят, а тебя расстраивают… Кто тут топчется? – крикнул он, заслышав шаги.
– Я, папаша, – появился в кабинете Иван, – видеть желали-с?
Афанасий Иванович нахмурился и осмотрел с ног до головы сына.
Иван был разодет франтом, расчесан и надушен так, что Афанасий Иваныч чихнул несколько раз.
– Обрадовался, дурень! – проворчал он. – Эк от тебя душищами-то разит… цельную банку, что ль, на свою глупую башку опрокинул?
– Нечаянно передушил-с…
– Нечаянно! У тебя все нечаянно: и пропал на три дня нечаянно, и вексель выдал нечаянно… Твой, что ль? – вынул он из бумажника вексель и ткнул его сыну под нос.
Иван покосился осторожно на вексель и потупился.
– Да ну, говори, – этот, что ль?
– Кажется-с… вероятно, он-с…
– Шут тебя знает, дурака, – заволновался Аршинов, – «кажется, вероятно»… смотри лучше!
– В шесть тысяч? Мой-с! Помню, что вексель в шесть подмахнул, но какою рукой подписывал, левой ли, правой ли… весьма возможно даже, что обеими.
– Тьфу! – скомкал старик вексель и швырнул комок в лицо сына. – И морду-то как следует в порядок не привел.
– Я старался, папаша.
– Старался ты, а над правым глазом что?
– Легкий ушиб-с.
– Замажь.
– Замажу, папаша, это легко сделать-с, совсем незаметно будет.
– Помни мой наказ: чтоб эти похождения были в последний раз, до свадьбы никуда ни шагу, слышишь?
– Клянусь, папаша, никуда не уйду, я больше с грусти зачертил-с…
– С какой грусти?
– Да как же, папаша, разве не обидно, что Олимпиада Сергеевна только об Сережке и мечтает?
– Глупая девчонка!
– А все-таки обидно.
– А ты старайся понравиться ей. Вот приедет к обеду, встреть ее на крыльце и букет поднеси.
– Слушаю-с.
– Девчонки любят, когда за ними ухаживают, а что о Сергее она мечтала, так в этом опасного ничего для тебя нет: выйдет за тебя замуж и Сережку забудет; все, брат, бабенки на одну колодку: с глаз долой – из сердца вон.
– Ну нет-с… не всегда так бывает! – вспомнилась Ивану вдруг цыганка с ее жгучими страстными ласками. – Другие, напротив, папаша, чем дольше не видают, тем больше о том человеке мечтают.
– Это бабенки сами говорят, а ты, с большого ума, и веришь… э-эх, Иван-простота! Как с тебя, дурака, вексель в шесть тысяч не взять? Дуры еще! В двадцать могли взять.
– Зачем же-с? Она честная, папаша.
– Кто честная?
– А цыга…
Иван сообразил, что глупо проговорился, и, закрыв рот ладонью, со страхом посмотрел на отца.
– Так это на цыганку мои денежки пошли, а?
Иван побелел.
«Шут меня дернул! – пронеслось у него в голове. – Ну, значит, опять трепка сызнова, ах ты господи! Что я за несчастный человек такой!»
– Негодяй!.. Следовало бы тебе за цыганок башку перечесать, да боюсь, невеста испугается… Вон, грабитель!
Иван торопливо было юркнул в дверь, но остановился на окрик отца.
– Стой! Поди сюда!.. Слушай, балбес: если ты теперь дозволишь себе опять такую выходку – из дому прогоню, слышишь? Прокляну и выгоню, как червь пропадешь…
– Воля ваша, папаша, – бормотал Иван, пятясь к дверям от отца, наступавшего на него со сжатыми кулаками.
– Вон! И чтоб больше я не слыхал о твоей пропаже, своими руками свяжу и отправлю в часть драть…
Иван не слушал продолжения. Он поспешно спустился вниз и очутился в саду.
– Беда с этими родителями, – бормотал он, шагая по дорожке. – И не довернешься – бьют, и перевернешься – бьют… Ах, когда-то я, наконец, на чистую волюшку попаду? Кажется, чего бы я не дал, только б из этой опеки дворянской выбраться… ну, вот женюсь… сто тысяч возьму… то есть отец возьмет, а не я… И опять кабала: жена первым долгом: ты куда? А отец прямо в морду: ты где был? Тьфу! Вот она, жизнь-то наша подневольная, анахимская!.. Ни тебе разгуляться, ни тебе душу отвести… а Пашка-то… Что теперь с Пашкой-то? – вспомнил он про цыганку. – Как сказал ей, что женюсь, так белее мела стала… «Отравлюсь», – говорит… и отравится, сердце чувствует, что отравится, потому по уши в меня врезалась…
Иван остановился и мрачно посмотрел на развесистую липу.
– Липка меня так не будет любить, как Пашка! – решил он, закуривая папироску. – Где ей!.. Во-первых, она сколько время Сережку в уме продержит… отуманил ее, бестия, книжками… А потом, живности такой нет, как в цыганке… Пашка – дьявол, огонь адский неугасимый… вопьется в тебя губами, так и чувствуешь, что душа из тебя вон выпирает… умертвить может поцелуем… а эта что? – презрительно мотнул он головой. – На словах все романы да романы, а на деле, поди, и поцеловаться-то как следует не умеет… кислятина! Ах, Пашка!.. Положим, тоже и с Пашкиной стороны не совсем благородно; накутил я на две тысячи, а взяли вексель в шесть… ну, да уж это такая нация, не может без хорошего проценту купеческого сына любить…
Размышления Ивана были прерваны появлением дворника, торопливо доложившего ему о приезде Алеевых.
Иван бросился со всех ног в дом, схватил приготовленный букет из белых роз и опрометью ринулся в переднюю, где уже стояла его мать и старший брат с женой.
– Где ты болтаешься? – шепотом уязвил его Андрей, пихая в спину. – Хорошие, настоящие женихи по часу невесту на крыльце ждут, а ты на шапошный разбор являешься… иди!
Иван вылетел на крыльцо, держа за спиной букет, и встретил Алеевых, высаживавшихся из четырехместной коляски.
Первым вошел на крыльцо старик Алеев и облобызал троекратно Ивана, подавшего старику впопыхах левую руку, так как в правой он держал букет для невесты.
Следом за стариком Алеевым вошла его жена и Александр. После всех на крыльцо взошла Липа.
Липа была бледна. Ее румяное личико осунулось и похудело. Под лихорадочно блестевшими глазами лежали темные круги. Она лениво подняла глаза на Ивана, бросившегося к ней с букетом, молча протянула ему руку, взяла букет и тотчас же передала его брату.
Также молча она поздоровалась с Аршиновыми и, пройдя две-три комнаты в сопровождении Ивана, выступавшего за ней журавлем и тщетно чуть не в сотый раз справлявшегося о драгоценном ее здоровье, очутилась в парадной зале, посредине которой стоял сервированный для обеда стол, утонувший в цветах и зелени.
Липа опустилась на первый попавшийся стул и только тут заметила, что рядом с ней, расплываясь в широкую гостеприимную улыбку, сел Иван.
– Вы как будто бы не в духе нонче, Олимпиада Сергеевна! – заговорил Иван, стараясь заглянуть в глаза Липы.
– Я? Напротив. С чего вы это взяли?.. – ответила та машинально, не вдумываясь в смысл слов.
– Так-с… по наружной видимости это заметно-с… а впрочем, может, я и в ошибку впадаю.
– Действительно, впадаете в ошибку, – проговорила Липа, стараясь отогнать от себя беспокойные мысли.
– Извините-с, пожалуйста… как вам наш дом нравится?
– Дом? – Липа подняла голову и обвела взглядом залу. – Хороший дом.
– И весьма поместительный-с… Кроме того, отделка дорого папаше обошлась… вообще папаша, Олимпиада Сергеевна, для своего удобства денег не жалеют-с…
– Это видно! – отодвинулась та. – А где помещается у вас Сергей Афанасьевич?
– Сергей? Вверху-с… там у него комнатка небольшая… Вам очень интересно его помещение?
Липа пристально посмотрела на иронически улыбавшегося Ивана и холодно проговорила:
– Меня интересуют только люди, а не комнаты.
– Так-с. Значит, вас Сергей интересует? – предложил тот вопрос.
Липа молча встала и пошла к матери.
Иван сконфузился.
«Кажется, я ей глупость завернул? – подумал он. – Черт бы побрал этих образованных невест: то недоговоришь, то переговоришь… То ли дело Пашка: что ей ни скажи, все ладно да складно выходит… хохочет, змея, и тебе в ответ, не хуже твоего, пули отливает… Не угодно ли тут на каждом шагу осторожность соблюдать… ну уж это дудки… как только женюсь, всю политику к черту пошлю! С бабами, да по нотам еще разговаривать – смерть чистая!»
Хозяин пригласил дорогих гостей откушать хлеба-соли. Ивана, разумеется, посадили рядом с Липой, относившейся ко всему безучастно. Он болтал, но осторожно, боясь попасть в неловкое положение, и в течение всего обеда упрашивал Липу кушать как можно больше, на том основании, что это для здоровья хорошо.
Липа едва прикасалась к кушаньям, и если бы ее спросили, что подавали за обедом, она бы задумалась над ответом.
Липа была разбита и уничтожена. Отправляясь на обед к Аршиновым, отец заявил ей безапелляционно, что она должна выйти за Ивана.
Между ею и отцом произошла бурная сцена, победителем из которой вышел, конечно, ее отец, не признававший никаких «но» и клявшийся всем адом, что повезет ее под венец с Иваном живую или мертвую. Для него это было безразлично.
Липа бросилась к матери, к брату и – что она могла найти у людей, подавленных деспотизмом отца? Ничего, кроме слез и сожалений. Плакать и жалеть себя она могла отлично и сама. Единственная надежда у ней была на деда, но и тот, крестя свою дорогую внучку и рыдая над нею, как ребенок, сознался, что ничего не может сделать против родительской власти.
Липа поняла свое отчаянное положение и замерла. Именно замерла. Ее горе было так велико, она чувствовала себя такой несчастной, униженной и оскорбленной в самых лучших, дорогих ее душе, чувствах, что в ее возбужденном мозгу царил такой хаос мыслей, одна другой ужаснее и безотраднее, что она ходила, одевалась и говорила, как заведенный автомат, лишенный смысла и собственной воли.
Она ниоткуда не ждала счастия. Сергея не было в Москве, да и что мог сделать Сергей, выросший и воспитанный на тех же домостройных началах, как и она сама? Правда, она могла уйти из родительского дома… но куда?.. Она воспитывалась по-купечески: умела вязать кружева для подушек и полотенец, умела спать до двенадцатого часа дня и больше ничего не умела. А он? Может ли он, сын миллионера-купца, добывать трудом столько, чтобы они существовали безбедно, не омрачая своего счастия грошевыми расчетами и учетами?
Она знала Сергея за умного, честного человека, беззаветно преданного ей и душой и сердцем, но она совсем не знала, умеет ли и может ли он трудиться и добывать себе самостоятельно кусок хлеба.
«Надо его видеть, – лихорадочно думала она, не слушая пошлые анекдоты Ивана о каких-то двух старых девах, – непременно увидать Сергея и решить… так нельзя… что-нибудь одно: жизнь или смерть…»
– Когда же он приедет с фабрики? – вырвалась вслух у ней думка.
– Кто-с, Олимпиада Сергеевна? – любезно улыбаясь, спросил сидевший против нее Андрей.
– Я говорю про Сергея Афанасьича! – опомнилась Липа, стараясь улыбнуться. – Его одного недостает здесь.
– Он не на фабрике-с! – доложил тот, улыбаясь еще слаще.
– Где же он? – спросила Липа.
– В имении-с гостит у своей невесты-с… Она, положим, еще не нареченная, но дело к тому клонит-с. У Лещаковой Ольги Андреевны… Может, слыхали-с?
Вилка выпала из рук Липы. Она, бледная как смерть, откинулась на спинку стула и судорожно схватилась руками за край стола.
– Это ложь! Ложь! Слышите? Ложь! – проговорила она, задыхаясь.
– Напрасно не верите, Олимпиада Сергеевна-с… Папаша, подтвердите, пожалуйста, мои слова, которым не доверяют вполне, – все так же приятно улыбаясь, произнес Андрей.
– Совершенно справедливо! – мотнул головой Аршинов, с недоумением посматривая на старшего сына. – Пировать так пировать! Нонче одна свадьба, завтра другая… Так, что ли, сват? – ударил он по плечу старика Алеева.
У Липы зазвенело в ушах.
XVIIНе верить Аршиновым Липа больше не могла. Да и ничего невероятного в женитьбе Сергея на Лещаковой не было: ей приказали выходить за Ивана, а ему – жениться на Лещаковой. Право сильного было на стороне родителей, детям же предоставлялось одно-единственное право: задушить в себе зародившиеся чувства и беспрекословно повиноваться родительской воле.
«Стерпится – слюбится!» – вспоминалась несчастной девушке поговорка, получившая в Замоскворечье с незапамятных времен права гражданства и превратившаяся в неотразимый аргумент родительского убеждения. Перед ней пронеслась целая фаланга подруг и знакомых девушек, таких же несчастных и лишенных всякой самостоятельности Липочек, Манечек, Верочек, которые так же, как и она, платили дань сердечному влечению и затем, рыдая и проклиная свою судьбу и деспотизм отцов, выходили под утешительную поговорку «Стерпится – слюбится», за тех, кого указывал им родительский выбор.
На душе у Липы от этих воспоминаний стало холодно и пусто. Она безмолвно уставилась на Андрея, с аппетитом убиравшего за обе щеки индейку, и на этом лоснящемся от жиру и невозмутимо спокойном и самодовольном лице читала свою будущую безотрадную жизнь.
«Все, кроме счастия!» – горько подумала она и чувствовала, как у ней на истерзанном сердце закипают жгучие слезы.
Обед кончился. Липа встала, шатаясь, из-за стола, спокойно поблагодарила стариков за хлеб-соль, причем старик Аршинов счел своим долгом расцеловать свою будущую невестку, чмокая ее сальными губами на всю залу, и подошла к окну, выходившему в сад.
– Иван, – раздался голос старика Аршинова, только что отчмокавшего стариков Алеевых, – ты бы показал Лимпияде Сергевне ранжереи наши.
– С удовольствием, папаша, – засуетился Иван, стремительно допивая стакан донского и торопливо вытирая губы салфеткой. – Олимпиада Сергевна, не угодно ли со мной прогуляться в сад и оранжереи?
Липа не слыхала его и продолжала смотреть в сад.
Иван покраснел, как рак, провел ладонью по голове и кашлянул.
Липа вздрогнула и с недоумением посмотрела на Ивана, гладившего свой затылок.
– Не угодно ли прогуляться? – повторил свой вопрос Иван.
– Куда прогуляться? – переспросила та, приходя в себя.
– В сад наш, посмотреть оранжереи-с.
– Пожалуй, мне все равно.
Иван, улыбаясь, подставил ей руку, свернутую кренделем, но Липа, не обратив никакого внимания на такую галантерейность, пошла навстречу спешившему к ней брату; лицо у Александра было озабочено, лоб нахмурен.
Он ласково пожал «крендель» Ивана и извинился, что похитит сестру на несколько минут.
– Я приведу ее к вам в сад! – бросил он жениху, торопливо отводя Липу в гостиную, где не было ни души.
– Липа, ты на себя не похожа, моя милая, – ласково пожурил он сестру, – помни, что ты не у себя…
– Знаю, Саша, знаю, – простонала та, – но если б ты мог видеть мое сердце…
– Липа, неужели я не вижу, как ты страдаешь?.. Надо победить себя.
– Легко сказать…
– Не заплачь только, ради бога… мамаша и я, мы оба просим тебя: будь мужественной…
– Хорошо, я знаю, что мне надо делать, но скажи мне, ради всего святого: ты веришь в то, что говорили о Сергее?
Александр потупился.
– Ты молчишь? Значит, это правда? Да?
– Как тебе сказать, – пожал плечами тот, – положим, я знаю Сергея за честного человека, люблю его, как брата, но… у него такой же отец, как и у нас…
– Значит, это правда, правда, Саша? Да? Да? – настаивала Липа, теребя борта жакетки Александра.
– Боже мой… успокойся, прошу тебя… ты в возбужденном состоянии…
– Я? Напротив, я спокойна, как никогда… Отвечай мне прямо и откровенно: он женится?
– То есть его женят, ты хочешь сказать, – это большая разница. Липа…
– Ну, женят… насильно женят… как и меня замуж выдают…
– Полагаю, что так, хотя и плохо в это верю.
– Разве ты заметил что? – с жадностью ухватилась Липа за сомнение брата. – Да говори же, говори, ради бога…
– Видишь ли… только успокойся ты, пожалуйста… Я не стану говорить до тех пор, пока ты не придешь в себя… и так уж за столом ты сидела приговоренной к смерти…
– Говори, я совершенно теперь спокойна, Саша… Видишь сам, как я спокойна… видишь?
– Беда с тобой просто… Говоришь, что спокойна, а сама меня душишь.
– Говори! – оттолкнула Липа от себя брата. – Ты не веришь в то, что Сергей женится?
– То есть не хочется верить… Все-таки было бы раньше об этом что-нибудь слышно… не правда ли?
– Правда, совершенная правда.
– И затем, насколько я его знаю, он мне непременно проговорился бы о том, что ему приготовлена невеста… Тебе еще он, может быть, и поостерегся это сказать, но скрывать от меня я положительно не вижу никаких причин.
– Правда, Саша, правда!
– Все это, вместе взятое, вызывает сомнение: но, с другой стороны, если б он был на фабрике, а не у невесты, что мешало бы ему написать несколько строк тебе или мне?
– И это правда, Саша.
– Тем более что он обещался мне писать каждый день. Я ему послал уже три письма и ни на одно из них не получил ответа. Ясно, что его нет на фабрике и что он действительно находится в имении Лещаковой.
– Бедный мой, бедный Сережа!
– Я спрашивал сейчас у Во всех отношениях, и тот недоумевает как относительно его женитьбы, так и относительно его местопребывания.
– Олимпиада Сергевна-с, ужли вам брат дома не надоел? – раздался за их спиной голос старика Аршинова. – Пожалуйте в сад, чай кушать.
Молодые Алеевы извинились и пошли вместе со стариком в сад.
У самой калитки стоял Иван с новым букетом и щурился от косых лучей садившегося солнца.
– Прошу принять, Олимпиада Сергеевна, – подлетел к ней Иван, – из своих теплиц-с.
Липа взяла букет и кивком головы поблагодарила его за любезность.
Старик Аршинов мигнул Ивану и, подхватив под руку Александра, увел его в оранжерею.
– Не угодно ли наши оранжереи осмотреть? – предложил снова Иван, идя рядом с Липой.
– Благодарю вас, когда-нибудь в другой раз, лучше пройдемся по саду.
– С удовольствием-с. Сад у нас очень хорош, и тени много, и воздух чистый, вот эта беседка в китайских вкусах, а энта, вон, в уголке, в русском штиле вроде избы.
Липа посмотрела на беседки и молча продолжала идти.
Иван снял цилиндр, вытер шелковым платком лоб и нагнулся к Липе.
– Олимпиада Сергеевна, у меня до вас маленькая просьба-с.
– Что вам угодно, Иван Афанасьич?
– Не сердитесь на меня.
– За что же я буду на вас сердиться?
– Ах, Олимпиада Сергеевна, неужели вы предполагаете, что я ничего не чувствую-с? Я много чувствую, да-с.
– С чем вас и поздравляю.
– Покорнейше благодарю-с. И чувствую я, и вижу все, у вас большое расположение к Сергею явилось, это так, я против ничего и не говорю: Сергей и красивей меня, и ученее, и барышням в разговорах потрафлять может.
– Как будто вы раньше совсем другое говорили, – проговорила Липа.
– Чужое я говорил-с… с чужих слов пел, а теперь я вижу все и очень вас сожалею. Простой я человек, Олимпиада Сергеевна, по-простому чувствую и говорю-с… Родители наши порешили нас соединить узами. Конечно, на это их воля, от Бога им ниспосланная, только, по моему мнению, союз наш будет совсем против совести… Вы мне очень ндравитесь, потому я никого не любил и не люблю-с… из женского сословия, а вы к Сергею симпатию имеете, следовательно, мне и вас от души жалко, да и себя тоже-с…
Липа остановилась и пристально посмотрела на Ивана.
– Какая моя жизнь? – продолжал Иван. – От родителей я ни жалости, ни ласки не видал, а от вас, окромя попреков, что ваше счастье загубил, ничего услыхать не надеюсь. А я ли, Олимпиада Сергеевна, гублю вас? Скажите на совесть?
– Нет, не вы.
– Говорил ли я вам, что влюблен в вас и желаю жениться?.. Не говорил-с. Просил ли я папашу, чтоб он меня на вас женил? Богом клянусь, слова единого не произносил… Жалости я стою, а не сердца-с…
– Я и не сержусь на вас, Иван Афанасьич, – с чувством пожала ему руку Липа. – Я вижу только, что мы оба несчастны. Вы женитесь на девушке, которую не любите…
– Позвольте-с… это неправда-с, вы очень мне ндравитесь…
– Но это далеко до любви, – покраснела Липа, выдергивая свою руку из пухлых рук Ивана.
– Почем знать-с?.. Сердца моего вы не знаете, а характеру и подавно. Я отчаянно могу влюбиться, ей-богу-с, да я и сейчас чувствую, что душу за вас готов отдать; в глазах у вас столько доброты ангельской, что так вот и тянет к вам. Я уж наперед знаю, что самый разнесчастный человек буду, обземь лбом буду биться, ноги ваши целовать, и заместо этого одно только равнодушие от вас получу.
– Вы, кажется, хороший человек, Иван Афанасьич, я так мало вас знаю.
– Узнайте-с, узнайте-с, Олимпиада Сергеевна, и ежели в ту пору скажете, что я ничего не стоящий в своей жизни – наплюйте мне в глаза…
– Скажите, почему вы не откажетесь от меня? Неужели вы не могли сказать отцу, что я люблю другого, что и вы, и я будем весь век несчастны?
– А вы говорили своему папаше?
– Говорила.
– И я говорил. А что из этого вышло? Нет, Олимпиада Сергеевна, против рожна прати трудно-с. На то воля наших родителей, они и в ответе за нас перед Богом… Скажите по совести, очень я противен вам?
– Кто вам сказал, что вы мне противны?
– Это не ответ-с.
– Другого и быть не может. Мои симпатии – для вас не тайна!
– Это к Сергею-с? Знаете, что я вам скажу, Олимпиада Сергеевна? Вам надо его забыть-с… Да-с!.. Не стоит он вашей любви, сердцем это чувствую, а сердце лгать не умеет-с…
– Ах, если бы я только могла забыть!
– Должны-с. Не стоит он вашего мизинчика, как перед Богом вам говорю-с. Ну, хорош он, умен, по-вашему, на разговоре собаку съел, а дальше что-с? Негодяй он, по моему нутреннему убеждению.
– Не смейте его ругать, он этого не заслужил.
– Он? Заслужил вполне. Не соперник ему эти слова говорить, а мужчина-с! Да-с! Мужчина! А всякая хорошая девушка, на мой взгляд, должна ценить в человеке не слово, не язык его, а поступки мужчинские… Извините, Олимпиада Сергеевна, может быть, я не ясно очень выражаюсь, но вы сами поймете меня-с… Настоящая, умная девушка не тряпку любить должна, а мужчину, у которого характер дубиной сломать невозможно, а не токмо что родительским приказом. Вы взгляните на меня хорошенечко, попристальнее-с, вот так-с, покорнейше вас благодарю. Что я такое на ваши глаза? Неуч, урод, папашенькин покорный слуга… Да не качайте головкой, ваше мнение я насквозь вижу, а полюби вы меня так, как Сергея любите, да разве я вас отдал бы кому-нибудь и женился на ком мне папашенька прикажет? Издох бы, удавился раз десять, утопился и вас бы с собою вместе утопил, это уж будьте покойны, а живою вас другому не отдал бы! Честью вам своею клянусь!
Липа смотрела во все глаза на разгорячившегося Ивана и ушам своим не верила: тот ли это человек, каким его создали и чужие разговоры, и собственное наблюдение?
– А он… верно женится? – спросила Липа.
– Кому охота вас обманывать… Рано ли, поздно ли сами об этом узнаете. Нет, Олимпиада Сергеевна, это не любовь-с: люблю за углом, а как папаша погрозил, так я за сто верст отскочил… Это… это негодяйство, по-моему, подлость-с… Да я бы на его месте за тысячу верст вас умчал. Сами не поехали, силой вас увез бы и протестов никаких не взял бы во внимание; любишь – иди за мной на край света, худо, хорошо ли нам там будет – сама увидишь, а колебаться не дозволю: тебе мука, и мне мука; тебе счастье, и мне счастье. Все наше, что Бог пошлет, а чего нет, того не взыскивай!.. Правду я говорю, Олимпиада Сергеевна, или нет?


