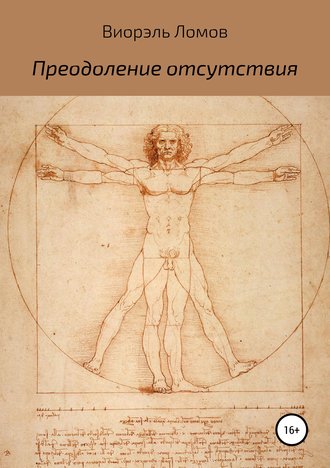
Полная версия
Преодоление отсутствия
***
У Василия Федоровича было три собаки: охотничья легавая Ада, уже преклонных лет, и ее сыновья – Прут и Дюк, погодки. Жил еще на дворе годовалый волк, бурый и сумрачный. Никогда не знаешь, что у него на уме. Как у политика. Встанет где-нибудь в проходе и стоит. Молчит и глядит, будто надумал что-то, а сказать не может, или раздумывает, стоит ли говорить – еще не поймут. И с места его не стронешь. Подолгу мог стоять не шевелясь, и все его опасливо обходили. Собаки волка побаивались, даже Ада торопливо лезла под стол или кровать, когда он появлялся в избе. Если же они встречались во дворе, Ада, ворча и взъерошившись, недовольно сворачивала в сторону, а Прут и Дюк жались друг к другу и отбегали подальше. За угрюмый характер и немоту дед прозвал волка Герасимом, но чаще всего его называли просто – Он. Волк же был настроен ко всем дружелюбно, он даже любил играть с детьми, покататься по полу, рыча и скаля зубы. Димка выворачивал овчинный тулуп мехом наверх, имитируя овцу, ползал на четвереньках и блеял, а волк бросался на него и отскакивал прочь, описывая круги и теребя зубами овчину, и всегда норовил уцепиться в загривок и потрепать.
– Додразнишься, – смеялась бабушка, – возьмет и съест тебя.
А дедушка добавлял:
– Волка ноги кормят, свои и чужие, особенно когда они бараньи.
Любил же Он, видимо, только Акулину Ивановну и кошку Белку. Хозяйка прикармливала его хорошим куском и одна не боялась погладить по спине и голове, а Белка любила потереться о его ноги, подняв хвост и мурлыча. Волк вырос на кошкиных глазах, и когда он еще был толстым и неуклюжим волчонком, они вместе ели из одной миски, после чего Белка вылизывала ему всю морду и особенно тщательно глаза.
– Что делается! Что делается! – восклицала Акулина Ивановна.
Дед махал рукой:
– Нынче весь мир набекрень!
Волчонка Василию Федоровичу подарил друг охотник совсем крохотным щенком, и первое время дед сам возился с ним.
Новый тревожный запах волка не давал Аде покоя, и она все реже и реже стала заходить в избу, пока волчонок подрастал. Окрепнув, он бегал во дворе и по улице, никого не трогал и не пугал. Прохожие принимали его за помесь овчарки с дворняжкой. Но, видимо, правда, сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Через год Герасим пропал, убежал, вероятно, искать сородичей. Настала зима, под окнами пурга намела сугробы, и утром, очищая снег с крыльца, Василий Федорович замечал под окнами волчьи следы и вспоминал Герасима: может быть, это он, проголодавшийся и замерзший, прибегал домой, заглядывал в окна и ждал, что его впустят, а мы не знали и не впустили… Ах ты молчун, молчун, Герасим. Дал бы хоть какой-то сигнал. Лапой поцарапал, хвостом постучал в дверь. Завыл бы, что ли. И собаки хороши – волка не учуяли. Потому, наверное, и не учуяли, что это точно Он был. Ушел, бедняга, с обидой на нас. Хоть и зверь, а добро понимает. И Василию Федоровичу становилось так грустно, так жалко волка, словно это существо было ему родное и близкое. Дед даже встряхнул головой от таких крамольных мыслей, но нет, и впрямь, трудно было назвать кого-нибудь из людей, чтобы так проник в душу.
Не стало волка, и вроде бы просторней в избе было, а в душе комок застрял, чего-то не хватало, появилась какая-то ненужная пустота. Видела и Акулина Ивановна, как к дому тянулись волчьи ночные следы, делали круги под окном и пропадали в глубине сада. Вечером она жаловалась деду: «Вся худоба зимой к человеку тянется, к теплу, а Он – от него бежит. где-то Он сейчас?»
Как-то весной люди услышали выстрелы по направлению к ветлечебнице. Говорят, ветеринары застрелили волка – гонялся за курами. Возможно, это был Герасим…
***
Ада была породистой собакой с хорошей родословной, тянущейся чуть ли не с прошлого века. Знакомый охотник предлагал за нее охотничье немецкое ружье, но дед не сменялся. И не экстерьером, не родословной, не красивым шоколадным окрасом брала за душу Ада, а тонким собачьим умом. Одно было в ней не так, как хотелось бы: не ведала она сословных предрассудков, следствием чего, к огорчению Василия Федоровича, на свет появился сначала Прут, а затем и Дюк. Остальных щенков разбирали знакомые.
Ада отличалась выносливостью, резвостью, терпением в стойке, была послушна и ласкова со всеми, любила детей и не боялась взрослых. Однажды на пристани ее приласкали матросы самоходной баржи и увезли в Ростов. Вернуть собаку помогла охрана при шлюзовании баржи.
Ада обычно спала на овчине, но когда все засыпали, наступала темнота, она бесшумно перебиралась на кровать Димки, медленно заползала, ложилась, вытянувшись, рядом с ним, если он уже лежал, голову клала на подушку и умудрялась как-то скрыться под одеялом. Ей не разрешались эти проделки, бабка даже стегала ее веревкой. Акулина Ивановна рано вставала доить корову, и Аде позоревать в теплой постели не удавалось. Собака зорко следила прищуренным глазом за движениями бабки, и если та поворачивалась в ее сторону или просто брала в руки веревку, пулей вылетала из кровати…
***
Прут унаследовал от матери только ум и породную осанку, а отец передал ему пеструю масть дворняжки и длинную волнистую шерсть, что роковым образом сказалось на судьбе собаки. Имея сильную тягу к охоте, влечение к поиску, он из-за своей внешности не внушал доверия. Его не стали обучать охотничьему ремеслу, а когда он самовольно дважды появлялся в поле и запугивал дичь, его прогнали с охоты и отругали. Ему не хватало терпения, как Аде, замирать, сигналить хвостом и ухом, поджимая переднюю лапу, и только по знаку хозяина прыгать в кусты или бурьян и поднимать выводок куропаток. Он, где чуял дичь, туда и валил напролом.
Прут стал угрюм и замкнулся в своем горе. Он как-то сразу постарел и не проявлял больше интереса к охоте. Стал промышлять в одиночку, работал темной ночью и не разменивался по мелочам. Все, что плохо лежало из съестного, Прут тащил домой. Добычу он не ел, не прятал впрок, а клал у порога, ложился рядом и ждал до утра, когда Акулина Ивановна выйдет доить корову. При ее появлении он вскакивал, кидался с визгом к ней, преданно заглядывал в глаза, бил хвостом о крылечко, мотал головой и фыркал, словно указывая на свой подарок. Это были связки тарани, головка сахару, куски масла, колбаса, сыр, сушки и прочая снедь. И не заваленое в пыли и песке, а чистое, словно нес он ее в упаковке из магазина. Промышлял он на рынке, куда на ночь съезжались на подводах крестьяне. Умудрялся стащить и с прилавка, и с чужого двора. Его ругали, даже не раз наказывали, сажали на цепь, но он был неисправим и продолжал «свою охоту», словно в отместку за то, что его отстранили от настоящей. Может быть, он хотел убедить этим людей, на что способен, чтобы они поняли это и взяли с собой на охоту. Все, что он приносил, ему отдавали назад, он где-то зарывал и, по всей вероятности, никогда этим не пользовался.
Однажды Акулина Ивановна увидела у порога сладкий пирог. Прут был особенно весел, скалил зубы и будто сам радовался такой добыче. Он долго прыгал вокруг нее, дергал за юбку, лизал ноги, словно умолял взять пирог. Акулина Ивановна на этот раз оробела всерьез – это не с рынка, это уже прямо из дома, сраму не оберешься, и прибьют собаку, наверняка прибьют.
А в полдень пришла ее знакомая, пригласила их с Василием Федоровичем на вечер отметить день рождения. К слову, она поведала о поразившем ее случае, даже испугавшим ее своей непонятностью. Вынула она из печи пироги и вынесла на веранду остывать, а сама вернулась на кухню. Минут через 15-20 пришла за пирогами, а сладкого нет. Никто не приходил, не шел мимо, а пирог – как корова языком слизнула. Корова и впрямь где-то мычала, но издалека. Акулина Ивановна замерла: «Вот она, кара божья! Срам-то, срам какой». От страха и стыда она не выдала Прута, не сказала, что тот уже отведал именинного пирога. Хорошо, что в деревне еще никто об этом не догадывался.
***
Отцом Дюка был соседский линевский Бирон, огромный кобелюга, черный, как уголь, в работе почти не уступавший Аде. Сам он был полукровка, как и Прут. Непостижимо, откуда в такой толстой псине было такое тонкое чутье.
Дюк был породист, красив, но совершенная бестолочь, как потом оказалось. Он обладал детской непосредственностью, всему радовался, всех радостно встречал и провожал, прыгал на грудь, лизал в губы, и если во двор входил с кем-нибудь дед, он лаял не на чужого, а на деда – восторженно и громко.
Василий Федорович, помня о промашке с Прутом, стал обучать золотисто-шоколадного Дюка тонкостям охоты на птицу. Но Дюку, сколько ни внушали, что главное в охоте это терпение и молчание, было все невдомек, и когда он чуял дичь, не делал стойку, как Ада, а начинал лаять с таким восторгом, будто к нему собрались в гости собаки со всего света, и радостно смотрел при этом на Аду и на деда. Дед только плевался с досады. Дюк же не чувствовал за собой ни малейшей вины даже тогда, когда вся охота по его милости шла к черту. От охоты его отстранили, но это ему было только на руку. Он окунулся в земные радости: сон, лень и еду.
Сутками напролет он спал на земляной крыше погреба, а в часы бодрствования лопал все, что находил на земле, в горшках, что перепадало с хозяйского стола и от прутовых приношений. Дюк, наевшись, ложился набок и любил, когда его щелкали по туго набитому, как барабан, животу. Пузо звенело, а Дюк жмурился и лениво-лениво возил хвостом по земле. И по всему его облику было видно, что милее человека у этой собаки сейчас никого нет.
Собак кормили прежде, чем сами садились за стол, чтобы они не вертелись у ног, не ставили свои лапы на колени, не роняли слюни и не лезли мордами в тарелки. По словам Акулины Ивановны, у собак была «не жизнь, а разлюли-малина».
Обычно стол накрывали у порога, на открытом воздухе, а в жаркие часы – на веранде. Однажды, когда в гости пришли Линевы и, наевшись арбузов, все стали шумно вздыхать и сетовать на тесную одежду, Дюк, по своему обыкновению, насытившись до отвала, лежал вверх атласным брюхом. Одно ухо у него лежало на земле, а второе прикрывало правый глаз, левый глаз хитро блестел в прищуре. Пес тоже вздыхал и слабо повизгивал. После еды он любил подремать и погреться на солнышке. Когда солнце стало припекать, он лениво поворочался, намереваясь встать и перейти в тень, но так и не смог подняться и остался на прежнем месте. От этих движений в его животе что-то заурчало, зашипело, и неожиданно для Дюка, из него, словно выстрел, вылетел звук, напоминавший шум выбитой из бутылки пробки. Мгновенно вскочив, он юлой завертелся на месте и стал яростно лаять себе под хвост, стараясь схватить этот хвост зубами, считая его виновником своего испуга. Сидевшие за столом громко и долго хохотали. Когда Дюк наконец-то успокоился и принял привычную для него позу, Василий Федорович щелкнул его по пузу и спросил, укоризненно глядя на всех:
– А как вы поступили бы на моем месте?
Все опять весело рассмеялись.
Воспоминание 7. Собачья верность
Однажды, еще не стало смеркаться и оранжево-красное солнце только наполовину ушло за горизонт, а на небо уже выкатила полная луна, – прибежала маленькая и круглая, как луна, Дуська Соснина и, перевалившись через изгородь, прокричала, что проклятый Дюк, должно быть, совсем взбесился, на выгоне напал на ее бычка Трофимку, и тот загудел в яр, свихнул себе ногу. Хорошо, что пацаны видели, а то так и сдох бы в яру. На себе приперла его до дому – делай теперь, к чертовой матери, уход за ним, будто других забот у нее нет. Еще, слава тебе господи, ее не покусал, проклятый. Так что пса своего держите хоть под иконами, а появится еще раз на хуторе – в Совет сообщу и уполномоченного приведу, чтобы произвел законный отстрел.
Выпалив эту угрозу, Дуська еще минут десять кричала разные громкие слова, которые били по голове Акулины Ивановны, как разрывные пули. После ее ухода у Акулины Ивановны еще с полчаса звенело в голове, и она приняла таблетку от поднявшегося кровяного давления.
«Недаром говорят, бодливой корове бог рог не дает, – подумала она. – Одним языком Дуська протаранить душу может, а если ей еще и рога?»
Но с Дюком действительно было что-то неладное. Акулина Ивановна еще вчера заметила, что Дюка совсем не было слышно, он где-то пропадал, прятался, а если появлялся, ходил медленно, с опущенной головой, не поднимая глаз, и не притрагивался к еде. Можно было, конечно, свести его к ветеринарам, но тех, как нарочно, вызвали в другой район – там объявили вроде как карантин по ящуру.
Когда Василий Федорович пришел с работы, она сказала ему:
– Дюк все-таки взбесился. На соснихинского бычка напал. Тот в яр свалился, ногу вывихнул. Дуська прибегала.
– А может, он первый Дюка боднул? – спросил Василий Федорович.
– Это соснихин-то бычок?
– Ладно. Пойду погляжу… А ты дома сиди! – прикрикнул дед на Димку.
Дюк лежал на погребе, забившись в самый угол под навес крыши. Взгляд у него был вялый, а из уголка рта свисала ниточка слюны. Дед поставил рядом с ним миску с едой, но Дюк к ней не притронулся. «Да, брат, плохи твои дела».
Василий Федорович зашел в дом, снял со стены двустволку. Заглянул в оба дула, проверил курки, ожесточенно щелкнул затвором. Опять повесил ружье и сел на сундук. Закурил. Потер рукой грудь – что-то неладное было в ней.
– Ну, что? – спросила Акулина Ивановна.
Дед ничего не ответил. Акулина Ивановна прижимала руки к груди, а на глаза ее навернулись слезы.
– Волка, что возле бахчи застрелили, точно признали бешеным, – сказал Василий Федорович.
– Господи!
– Ладно! – дед сорвал ружье, вытащил из-под лавки саперную лопатку и вышел, хлопнув дверью.
Димка кинулся к Акулине Ивановне.
– Бабушка! Он застрелит Дюка! Не разрешай ему стрелять в него! Не разрешай! Не надо! Я не хочу! Он же такой хороший! Он лучше всех вас! Ну за что, за что, бабушка?
Он хотел выскочить из избы вслед за дедом, но Акулина Ивановна не выпускала его. У нее катились слезы по щекам и тряслись руки, и она не знала, как объяснить внуку, что нельзя бешеных собак оставлять в живых, что это опасно для всех. Как объяснить внуку, что бешеную собаку надо убить, как объяснить это ему, если он знает, что никто не имеет права никого убивать.
Потом уже, лет через тридцать, Мурлова вдруг пронзила ясная и спокойная мысль, что и бабушка и дедушка всего за несколько лет до этого пережили и смерть близких, и страх оккупации, и взрывы бомб, и убийства, совершаемые ежечасно на их глазах, и вот когда им самим пришлось решать судьбу собаки, жить ей или не жить, они оказались в состоянии шока, не меньшего, чем в дни войны.
– Дюк, ко мне!
Только что перекопанная грядка пахла вареной кукурузой. Был ослепительно-яркий, до черноты в глазах, полдень июля. Пик жизни.
– Дюк, ко мне!
Дюк встал только после третьего призыва.
Дед быстро шагал за хутор к каменному яру. Миновав балку с ручьем, пошел в гору. Под ногами с шорохом осыпалась каменная россыпь. Прыскали во все стороны кузнечики. Большой плоский камень, набирая скорость, поскакал по склону, мимо плетущегося Дюка, мимо куста шиповника, прыгнул последний раз и исчез в бурьяне. Бурьян вздрогнул, качнулся, выпрямился и застыл.
– Ну, Дюк, пришли. Становись, – и дед вздрогнул от мысли: «Палач… Каково же человека расстреливать?..»
На возвышении дул сухой жаркий ветер, но деду было холодно. Внизу в золотом мареве лежал хутор, такой прекрасный и тихий. Щемяще пел невидимый жаворонок. И солнце гнало из прищура слезу.
Дюк встал грудью вперед и глядел на деда исподлобья. Казалось, он все понимал. Голова его бессильно болталась между растопыренных лап. Он тяжело дышал. Искрилась, как паутина, слюна, сбегающая из уголка рта.
Может, все-таки не бешеный? Болеет?.. Но дед видел на своем веку много, в том числе и бешеных собак. Он воткнул в каменистую почву лопатку, медленно снял ружье. Приклад блеснул на солнце, и дед зажмурился. Он привычно вскинул ружье, собираясь выстрелить, не прицеливаясь, как он бивал «влет» птиц, но тут откуда-то сбоку метнулась темная тень, и дед чудом не спустил курок. Может, оттого, что палец был ватный.
Как из-под земли появился Прут и заслонил собою Дюка. Он часто дышал, язык его висел, и пес то и дело заглатывал слюну.
– Прут! Фу-ты… Пошел!
Но Прут, прижав уши и хвост, не уходил.
Дед кинул в него камень. Прут увернулся, но не ушел. Дюк был безучастен к происходящему. Прут смотрел на хозяина такими глазами, что тому стало не по себе.
– Да уйди же ты! – в сердцах крикнул он и снова вскинул ружье. Прут стоял вплотную к Дюку. Так можно задеть и Прута. Василий Федорович опять бросил камень в собаку. Камень попал Пруту в бок. Пес вздрогнул, взвизгнул, но с места не тронулся.
А ведь здоровая собака бешеную за версту чует. Может, и правда, Дюк не бешеный?
Дед вынул патрон и, закинув ружье за плечо и захватив лопатку, пошел большими шагами под гору, оступаясь на съезжающих под ногами плоских камнях. Огромный камень свалился у него с души и, проскакав по склону мимо куста шиповника, прыгнул и исчез в бурьяне. Бурьян даже не пошевелился.
«Поди ж ты… – Василий Федорович вытер глаза рукавом. – Собаки, а как это у них! Может, отравил кто Дюка. Но кто? И за что? Когда же ветеринар приедет?»
Оглянувшись, дед увидел, что обе собаки все еще стоят рядом друг с другом. «Словно прощаются», – подумал он, и ему перехватило дыхание, оттого, может быть, что не простился он ни с Гришенькой, сгоревшим в танке, ни с Сашенькой, которого угнали немцы неизвестно куда и зачем.
Навстречу, запыхавшись, бежал Димка.
– Куда ты? – дед схватил его за руку. Тот молча и зло вырывался из рук деда.
– Да успокойся ты, дурень! Не тронул я твоего Дюка. Вон они, оба.
Прут вернулся ночью. Один. А Дюка с тех пор никто не видел. Возможно, он не захотел умирать в родном доме. Или не хватило сил вернуться домой. А может, не мог простить людям их жестокости. Кто ж его знает…
Димка обежал все балки, облазил все яры вокруг хутора, но Дюка не нашел.
Некоторое время предполагали, что Дюк где-то лечится травами и корешками. Но он так и не появился, пропал бесследно.
А через несколько дней ночью завыл Прут. И, как нарочно, на черном холодном небе одиноко светила луна, напоминая огромный слезящийся глаз собаки.
Прут выл несколько ночей, и несколько ночей Димка безутешно плакал.
Раз только, перед заходом солнца, мелькнуло на дороге что-то золотисто-шоколадное, вспыхнуло на солнце и исчезло. Сердце вздрогнуло и долго не могло успокоиться.
Воспоминание 8. Операция «Мщение»
Прошла еще неделя, стали понемногу привыкать к тому, что Дюка больше нет. Удивляло лишь, что бешенством заболел Дюк, которого и палкой не выгнать было со двора, а Прут, исколесивший все сады и степи, обнюхавший все закоулки в деревне, остался здоров.
Особенно это обстоятельство настораживало Димку. Он, напрягая память, вспоминал все минувшие события, и ему показалось странным, с чего это бабка Агафья вдруг заинтересовалась собаками, когда всем известно, что она их боится и терпеть не может.
Недели три назад она заглянула к Акулине Ивановне поболтать о своих бабьих делах, спросила, чем она кормит собак, и, между прочим, пожаловалась о странной пропаже: сушилась у нее на веранде рыба, и самая большая вязанка пропала. Никто не приходил, не уходил, а она словно бы на небо вознеслась. Когда Агафья говорила об этом, мальчика поразили ее глаза: они светились странным торжеством, точно бабке была известна какая-то тайна. А еще, сказала она, у Рыковых исчезла со стола колбаса, а у пастуха прямо с головы – шляпа.
Димка вспомнил, что после ухода Агафьи бабушка ругала Прута и вновь посадила его на цепь.
Сомнения его нарастали, и он заподозрил бабку Агафью в покушении на жизнь собак. Это, наверное, она подбросила им отраву, и Дюк ее слопал. А когда Дюк пропал, и Агафья что-то перестала заходить к ним во двор. Странное, даже таинственное совпадение!
Димка высказал Гришке свои подозрения. Тот согласился с ним:
– А это очень просто: в мясо втыкают иголки или толченое стекло – и собаке каюк. Так немецких овчарок убивали. А бабка Агафья мо-ожет, я ее знаю!
«Ей надо отомстить», – решили друзья. Гришка, как более искушенный в проделках, предложил кодовое название мести – «Дрожжи». Но, во-первых, нужны были дрожжи, а взять их негде, и, во-вторых, очень уж памятен был случай с дрожжами у Ваньки Сидорова.
Одно время врагом № 1 Ваньки Сидорова была мельничиха (она в прошлом году перебралась в станицу). Как-то поймав Ваньку в своем саду, мельничиха стащила с него портки, отлупила крапивой и, без порток, прогнала со двора. От обиды Ванька до темноты ревел, сидя в реке, сгоняя красную сыпь с белого нежного места. Но голь на выдумки хитра: не вытерпев такого оскорбления и насмешек дружков, он смотался в станицу, раздобыл большую пачку дрожжей и подбросил их в уборную мельничихи. Уборная стояла в углу двора, над самым обрывом в яр, как надежный часовой. Двор же мельничихи выгодно располагался на возвышении, на виду у всего хутора.
На второй день, в прекрасное солнечное утро по склону яра на выгон поползло бог знает что. Слухи распространяются везде одинаково, и уже через полчаса все в хуторе знали о случившемся и потешались над мельничихой. Любопытные с другого конца хутора прибегали посмотреть на столь редкое явление природы.
Мельничиху никто на хуторе не любил. Она была приезжая, «москалиха», жила обособленно от всех, была крута и телом, и нравом, и года три тому назад, поговаривали, свела в гроб языком и кулаками своего муженька пропивашку.
Каким-то образом Сидоров старший узнал, кто сотворил сие злодеяние и выдрал Сидорова младшего, как сидорову козу. Надо ли говорить, что Ванька Сидоров с таким грузом насмешек и оскорблений уже никогда не смог баллотироваться в депутаты даже самого низшего уровня, и максимум, которого он достиг в своей служебной карьере, – это начальник цеха.
Вот это-то (возмездие) и останавливало Димку принять Гришкино предложение. «Не выдрали бы и нас, как Ваньку, – думал Димка и, схитрив, отказался от этой идеи: – Не будем повторяться».
И он изложил Гришке свой план мести.
Надо ударить по самому слабому месту Агафьи. Все в хуторе знали, что она боится всего на свете. Бойкая и шумная днем, с наступлением темноты она боялась собственного дыхания. На окнах ее дома были добротные ставни, единственные в хуторе, закрывавшиеся изнутри на железный шкворень. Дверь была не с крючком или щеколдой, как у всех, а с железным засовом. На ночь же изнутри к окнам и к двери Агафья еще приставляла тазы и корыто. Если кто и полезет – шуму не оберешься. Жила Агафья одна с самой войны.
– Раз она всего боится, надо ее попугать. И не один раз, – сказал Димка, – а три. Так дольше помнить будет. Всякое дело надо, как в сказках, по три раза делать. Вон даже гвоздь – уж на что дедушка мой плотник – и то три раза по нему стучит, когда забивает.
***
В первую ночь мщения была кромешная тьма. Самих себя в пору пугать. Небо казалось мрачным и угрюмым. Молодой тонюсенький месяц козликом прыгал в плывущих облаках.
Когда старики уснули, Димка выскользнул из хаты. Глухо и сыро было в саду. Гришка, ежась от прохлады, уже ждал Димку у калитки.
Ребята залезли в агафьин двор и подкрались к окну, возле которого стояла ее кровать. У Агафьи собаки не было, и оттого ночной двор выглядел каким-то пустым и одиноким. Ребятам все время казалось, что за их спиной кто-то стоит, им стоило больших усилий побороть свой страх и не озираться по сторонам. И точно, сам испугаешься раньше, чем кого-то напугаешь. И в сознании мальчишек промелькнуло: «А каково-то бабке Агафье, одной, в темной тишине, огороженной ставнями, шкворнями, тазами, со своей безысходной тоской и страхом?» Конечно, думали они не этими словами, но об этом.
Но слова словами, мысли мыслями, а дела делами. Дрожа от ночной свежести, а может, и от страха, ребята некоторое время прислушивались. «Стучит!» – «Где?» – «А вот: тук! Тук! Тук!» – «Да то твое сердце!» – оба судорожно хихикнули. – «Спит?» – «Наверно, спит, – подтвердил Гришка, стуча зубами. – Ну, начали», – он просунул в щель под ставню изогнутую проволоку и стал скрести ею по стеклу. Димка заскулил по-собачьи.
В хате задвигалось, и мальчишки мгновенно перелетели через забор. Шлепая по мягкой пыли, они добежали до двора Косовых и с ходу плюхнулись на остывшую завалинку. Отдышавшись, пошептались о планах на завтра и разошлись по своим домам.
***
В следующую ночь они уже скребли и выли под дверью, а на крыльце оставили коровью берцовую кость и клок собачьей шерсти, которую Димка предусмотрительно выстриг у Бирона. Уходя, друзья сунули под дверь самодельный проволочный крюк, удачно поддели им корыто и резко дернули на себя. В чулане загрохотало.
***
На третий день с утра мальчишки уплыли на дедовой лодке на бахчу и вернулись только после обеда, сильно уставшие и с мозолями на ладонях. Не доплыв до гребли, они причалили к песчаному мысику, вытащили из лодки два громадных арбуза, разрезали каждый на две неравные части, очистили от мякоти и вымыли в реке полученные котелки. Потом в каждом котелке вырезали дырки для глаз и рта и воткнули по кривой палке.









