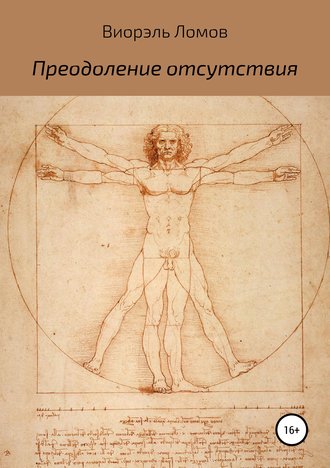
Полная версия
Преодоление отсутствия
– У них развилась то ли боязнь пространства, то ли боязнь стремительно уходящего времени, – заметил зав. кафедрой мединститута Борисов. – Но выглядят они болезненно, очень бледные, видно, бледная немочь у женщин…
– Бледные они поганки, – заметил Дрейк и не сплюнул только потому, что некуда было сплюнуть.
– А у мужчин…
– А у мужчин скоро будет одеревенение всех членов, – заметил Филолог, и в глазах Дрейка прочел одобрение своим словам.
– Да, похоже, – согласился зав. кафедрой мединститута Борисов.
– Пусть примут курс лечения. Может, он последний в их жизни.
Вторая группа – преимущественно старички, закоренелые холостяки, бобыли, аскеты и прочие неудачники – сидели в затишке на корме в трех шезлонгах и восьми плетеных креслах, переставляли, бормоча, шахматные фигурки и с легкой грустью смотрели на все, что оставалось позади, чего было не вернуть и не пережить вновь. Они уже ни о чем не спорили, как в первую неделю погружения – тогда на них очевидно сильно подействовала молодежь, а со всем соглашались. Собственно, что такое, с позиций опыта, спор? Так, дребедень, напрасная трата драгоценного времени. Эту группу, естественно, игроки не осуждали и не обсуждали, так как сами косвенно были ее участниками.
Ну а молодежь толкалась на носу, подставляла ветру и солнцу счастливые загорелые лица, жадно вглядываясь в надвигающиеся неведомые берега, набегающую воду, облака, сияющую восточной голубизной и золотом жизнь. В их шумной, неунывающей компании случайно затесавшийся представитель первой или второй группы чувствовал себя чужим, одиноким и несчастным. Дрейк уважал эту группу, Дуче относился к ней индифферентно, у Филолога щемило сердце, когда он думал о ней, ну а для зав. кафедрой мединститута Борисова она была хуже горькой редьки.
После захода солнца, ночь напролет молодежь танцевала, пела, целовалась, мешала спать второй группе и мешала быть истинно счастливой первой.
На Фаину больше никто не посягал. Во всяком случае, на коленях не стояли и страстно не умоляли – как-то все поняли сразу, что это бесполезно и бесперспективно. Хотя влюбленных в нее были воз и маленькая тележка (она, правда, не собиралась их везти). Один лишь лидер, обросший серебристой шерстью, игнорирующий всякие группы, кроме той, где он был центром, не терял надежды и каждый вечер угощал Фаину в баре коктейлем, танцевал с ней один танец, благодарил и, галантно поклонившись и поцеловав ей руку на прощание, шествовал к себе в каюту. Казалось, он несет не себя, а драгоценную вазу. Что он делал один в каюте – никто доподлинно не знал. Видимо, ждал Фаину. Может, это был страстный мужчина. Он как-то признался Фаине, что его предки – выходцы из Валенсии. Все может быть. Только Фаина тут же забывала о нем до следующего вечера, и ее смех раздавался на палубе до утра.
В последний вечер Фаина, не допив коктейль, бесцеремонно бросила в баре лидера, покрытого шерстью, и выскочила на палубу. Точно черти вынесли ее наверх. По палубе брел Филолог. Подхватив его под руку, она через четверть часа, как Шахерезада, вытащила его дозволенными речами из прострации и довела до совершенного умоисступления. Филолог, как мальчик, полез к Фаине целоваться. Она странно взглянула на него. Оттолкнула. И пошла по палубе, покачивая бедрами. Совсем как марсельская шлюха. У Филолога задрожал подбородок. Он понял, что она идет к нему. В каюту.
В полумраке ее глаза сияли. Он не мог не глядеть в них. Она улыбалась. Молчала. И ждала. Филолог упал перед ней на колени. И обнял ее ноги. Прислонился к ним головой. Ощутил их прохладу. Фаина рассеянно вертела завиток на его макушке.
– И долго мы будем так? – в голосе ее была насмешка. Филолог понял, что эта златовласая колдунья презирает его, и будет презирать еще больше, если он посмеет овладеть ею. Он понял, что она никогда не будет его, что она вообще никогда не будет чьей-либо, и что она разбила его жизнь, навсегда разбила. Фаина дернула Филолога за вихор. Она подумала с горечью: «Уж Гвазава бы сейчас не растерялся». Филолог опустился на пол, разняв свои руки. Холодная испарина покрыла его лоб. Он плакал без слез.
Фаина поджала губы и вышла из каюты…
– Почему вы никогда не улыбаетесь, Фрэнк? – спросил Филолог вечером за пулькой капитана.
– Почему не улыбаюсь? – задумчиво повторил Дрейк, изучая свои карты. – А, собственно, чему я должен улыбаться?
– Как чему? Ну, жизни, например, шутке, женщине… Мало ли чему, – Филолог выпил.
– И что, помогает? – спросил капитан.
– Выпивка?
– Выпивка помогает. Улыбка?
– Да как сказать… – Филолог стал чересчур сосредоточенно смаковать рыбий плавничок.
– Хм… Видите ли, у меня, как эти ваши… – Дрейк подыскивал слово.
– Бездельники?
– Да, они. Как эти ваши бездельники любят говорить, трагическое мироощущение. Вы воевали? А вы? А я воевал. Вот потому и не улыбаюсь. Я начал войну танкистом. Потом горел в танке. Рубцы вот до сих пор. Это не от абордажных атак. Хотя из-за рубцов этих в основном и прозвище пиратское прилипло… К партизанам попал. Там меня в разведчики определили… Гореть в танке – не самое смешное. А вот давить людей, а потом с гусениц отдирать намотанные человеческие кишки…
Зав. кафедрой мединститута Борисов откинулся на стуле и широко раскрыл глаза. Он был специалистом в области психологии и остро ощущал дисгармоничность момента.
– Но и после этого улыбаться еще можно. В улыбке главное зубы. А я два года эти зубы вышибал. Буквально и натурально. «Языков» брал. Нас в разведку всегда по трое ходило. Но брал «языка» всегда я. Так уж получилось. У меня всех моих фрицы побили, что мне оставалось делать? Колька Жуков, профессиональный армейский разведчик, меня натаскал. Он до победы не дотянул, под мину попал. В руке вот так зажимаешь свинцовый шарик (по руке, специального изготовления) и ползешь, скажем, к часовому. Подползаешь – тут надо как пружина вскакивать (я в день, с бревном на плечах, по тысяче приседаний делал), вскакиваешь – и наотмашь загоняешь ему этот шарик в рот, вместе с зубами.
Зав. кафедрой мединститута Борисов проглотил слюну, и глаза его стали еще шире. Этот метод взятия «языка» был очень далек от методов психологии: скажем, метода проб и ошибок, используемого бихевиоризмом, и даже метода семантического радикала, в котором вызывают оборонительную реакцию ударом электротока. Дрейк понимающе кивнул ему головой.
– Всегда брали «языка» тихо – тут не покричишь, когда у тебя зубы в глотке. Да и боль парализует мгновенно. И так два года. У меня поначалу смеяться еще получалось. А потом и смеяться не мог. Не лицо, а маска. Маска разведчика. Я бы фильм не «Подвиг разведчика», а именно так – «Маска разведчика» – назвал. Так верней.
Филолог почувствовал («почувствовал», как могут чувствовать все совестливые люди) свои страдания такими пустыми и всю свою жизнь такой никчемной и пропащей, что, извинившись за то, что перебрал сегодня, понимая, что испортил хорошим людям игру, вышел, шатаясь, на палубу и в отчаянии едва не прыгнул за борт. Его удержала чисто эстетская мысль, что когда его вытащат из воды, опухшего и безобразного, его таким, быть может, увидит Она… «Феофан» возвращался к повседневной жизни. До города оставалось десять часов ходу.
На трапе Филолог подал руку Фаине. Она с улыбкой оперлась на нее. Глядя Фаине в глаза, Филолог сказал:
– Унижаться пришлось мне намедни. Ничего: Париж стоит обедни.
Фаина, не моргнув глазом, ответила:
– Oui, Paris vant bien une messe.
И улыбнулась, чертовка! Обворожительно улыбнулась!
Глава 17. И ножками, и ножками – влево вправо, влево вправо, влево вправо
На третий день по прибытии Мурлова в Воложилин, когда он оформлялся в отделе кадров, инспектор позвонила куда-то и подала ему телефонную трубку. Женский голос, любящий давать поучения, пригласил его назавтра к девяти утра к Сливинскому. «Захватите с собой диплом. Просьба не опаздывать!» – произнесла трубка. «Не опозда-аю…» – страстно прошептал Мурлов в трубку и бережно положил ее на аппарат. Инспектор покачала головой.
Секретарше понравилось, как он представился – вошел в приемную, щелкнул каблуками и серьезно произнес: «Разрешите представиться. Мурлов Дмитрий Николаевич. Выпускник столичного вуза. Красный диплом. Семьей не обременен. Прибыл в ваше распоряжение, сударыня». Прекрасная Альбина не нашлась, что сказать, молча распорядилась сударем и запустила его к директору, прищелкнув каблучками. Мурлов взглянул на нее, и они улыбнулись друг другу. Улыбка – что клей: склеивает порой на всю жизнь.
Сливинский посмотрел диплом, спросил, как погода в Москве, не тает ли снег, чем удивил Мурлова, расспросил об институте, о теме дипломной работы, руководителе, поинтересовался, знает ли он иностранные языки и умеет ли программировать на «Альфе» и на «Алголе».
– Ну что ж, Дмитрий Николаевич, испытательный срок вам – год, будете стажером-исследователем, оклад 100 рэ, общага возле леса. Не берлога, но живут в ней медведи. Увидите. Через год аттестация. Там посмотрим – научным сотрудником вас сделать или инженером, но кем-нибудь обязательно сделаем. Старайтесь. На год вам задача – узнать у коллег все, что они знают, научиться у них всему, что они умеют. Я, конечно, несколько преувеличиваю, за год не успеете, но старайтесь. А сверхзадача – к концу срока определитесь, чем хотите и чем сможете заниматься у нас. На ВЦ у нас много времени – на «БЭСМ-6», не теряйте это время даром. А то потом, голубчик, за время придется платить. Будете работать у доктора Хенкина, в отделе аэродинамики. Слышали о таком? В столицах?
– Да. Монографию читал.
– Ну и прекрасно. О человеке надо судить по лучшему, что он создал. Хотя у него есть несколько статей в американском журнале «Механика». Тоже неплохих. В нашей библиотеке есть.
Фамилия Хенкин часто встречалась в научных журналах и ведомственных сборниках. На пятом курсе его имя несколько раз упоминали на лекциях, и у кого-то в группе даже была тема дипломной работы в развитие одной из хенкинских идей.
Здесь, в институте, как вскоре узнал Мурлов, Хенкина по праву считали счастливчиком. В сорок пять лет он уже имел все, что нужно для человеческой жизни: доброе имя, прочное место в научном мире, квартиру на Стрельбищенском жилмассиве, машину, красавицу жену, вывезенную пять лет назад из загранкомандировки – она была в поездке по Польше его переводчиком. (Опять полячка? – подумал ты). Нет, она была русская, но ее родители долго работали в Польше, в торгпредстве, и ополячились настолько, что Елена Федоровна себя считала полячкой, и ей нравилось, когда к ней обращались «пани» и восхищались ее красотой – простительная слабость.
Хенкин обладал прекрасной памятью и обширными сведениями во всех областях человеческого знания. Некоторые, правда, считали его занудой, но это был простительный недостаток при таком достатке всего прочего. Ведь, по большому счету, мужчины-мудрецы и женщины-красавицы – все зануды. Это закон природы. Закон занудства. Занудой же его называли по той причине, что у него был зуд рассказывать встречному и поперечному обо всем, что он знал. А знал он все и знал всех. Поэтому это было всеобщее проклятие. В его памяти можно было найти необходимые ученому (хотя на то и есть уйма справочников) точные (до немыслимых степеней) значения космических, ядерных, химических и прочих констант; и тут же – сколько, например, ступенек в потемкинской лестнице (что в Одессе) было и сколько осталось; или – сколько любовников было у Клеопатры и Айседоры Дункан или любовниц у Пушкина и Казановы (причем дотошность его в изложении подробностей была такова, что невольно хотелось спросить, уж не прятался ли он сам в это время где-нибудь за портьерой или в складках ковра); или – что сказал Диоген Синопский, сын менялы Гинесия, развратнику Дидимону; или – как менялся курс гульдена во Франции на протяжении семи столетий и, что гораздо изменчивей, цена на водку в России за последние сто лет; или, на худой конец, когда с собеседником было не о чем говорить, – сколько у кита весит большое яйцо – об этом, кстати, через него, знали уже даже в младшей группе детсада № 7. Хенкин, повторяюсь, знал все. Не знал одного – зачем ему все это нужно знать. Впрочем, Божье наказание иногда носит самый причудливый характер.
Надо отдать ему должное, на работе он говорил только о работе, и все только дельное, ну а вне работы – обо всем остальном. Поскольку нормальный человек поступает как раз наоборот, ему (нормальному человеку) с Хенкиным было весьма напряженно. Не дай Бог нормальному человеку (здесь: читай – обычному) по пути на работу столкнуться с Хенкиным – его охватывало смятение и ужас, как в средневековье при встрече с чумой. С Хенкиным хорошо чувствовал себя только вахтер Митрич. Тот был глух, как пень, и ему нравилось, что такой уважаемый человек, доктор наук, профессор, о котором писали даже в Америке! – так помногу с ним разговаривает. У Митрича потом всю вахту светились глаза. Хенкин же отзывался о Митриче, как о чрезвычайно приятном собеседнике. От Хенкина и прятались, и обходили, и обегали его стороной, меняли привычные маршруты следования в институт и из института. При встрече с ним у некоторых на мгновение отказывали ноги, они приседали, вскидывали руку, дико глядели на часы, били себя по лбу и с воплем «забыл!» или нечленораздельным мычанием шарахались от него в проулок или в кусты, как от той самой чумы. Хенкин не отчаивался и через минуту-другую радостно (любую новость, даже о поголовном море в Африке или последствиях цунами в Японии, он сообщал с радостным выражением лица, будто произошло нечто долгожданное) сообщал очередному коллеге, какой рекорд установила где-то у черта на рогах швея-мотористка и по какому избирательному округу ее выдвинули в депутаты Верховного Совета, и заодно, сколько в Совете швей, академиков, и кто из них депутат формальный и кто не формальный, и что слово «формальный» произошло от французского, а то, в свою очередь, от латинского, и так далее, до яйца включительно, и от него обратно. Словом, дурдом. В средние века на Востоке дурбаром назывался царский двор, а дурдомом, наверное, царский дворец.
В этих двух параллельных потоках Хенкина – сознания и речи – слушателей несло и мотало, как щепку в ливневой канализации. Все-таки самым удивительным было не то, что Хенкин все это знал и помнил, а то, когда он это все узнал, так как за человеческую жизнь столько узнать было физически невозможно. «Хенкин – бессмертный, как французский академик», – говорил Сливинский. («Дункан МакЛауд», – добавим мы, как люди более продвинутые во всякой чертовщине).
Мурлов, молчаливый и новенький, и, судя по всему, понятливый и не пустой, как большинство выпускников даже столичных вузов, вполне подходил Хенкину, и Хенкин иногда специально поджидал своего сотрудника возле общежития, мимо которого шел на работу пешком. Мурлову Хенкин не казался таким занудой, как остальным, так как он сам тоже свято верил в то, что делу время, а потехе час (пока идешь на работу). У каждого своя потеха, и у Хенкина она не из худших. Что может быть лучше достоверной информации? Это оценят у нас только лет через двадцать, когда информацией начнут торговать; и, как все, к чему прикасается торговля, начинает гнить и искажаться, так и самая правдивая информация пойдет от лукавого.
***
Глядя на Юрия Петровича, Мурлов часто вспоминал институтского друга – Саню Баландина. Саня был на несколько лет старше своих сокурсников, так как в институт поступил (по его словам) «с должности массовика-затейника» в одном из подмосковных домов культуры. Слабое зрение позволило ему плодотворно трудиться на ниве народной культуры те несколько лет, которые он мог также плодотворно отдать службе в рядах СА и ВМФ, и скорее всего, на этой же ниве. На то у него был природный талант, сродни таланту пахаря.
У Сани было две страсти: футбол и оперетта. Такие вот две крайности, говорящие о цельности натуры. Проще верблюду было пролезть в игольное ушко… (Юрий Петрович разъяснил, что по одной версии игольное ушко – это всего-навсего арка над въездом, не то в Иерусалим, не то в храм, а по другой – нонсенс из-за некорректного перевода с иврита на греческий). Так вот, проще верблюду было пролезть в игольное ушко, чем представить Саню Баландина на футбольном поле или на сцене театра оперетты. Был он толстый и корявый, с плохо координированными движениями конопатых рук, коротких ног и волосатого туловища. Золотые с чернотой очки и зубы, красное лицо, толстый короткий нос, смоляная, как щетка, борода, смоляные же волосы – не добавляли шансов на успех ни у мужчин, ни у женщин. А он и не хотел и не стремился играть ни в футбол, ни в оперетту. Он сам любил наслаждаться зрелищем и любил рассказывать о нем так, что получалось очень зрелищно и смачно. Рассказывал он вдохновенно и страстно, талантливо и артистично. И глаза его горели при этом, как у всякого одержимого.
О футболе он знал все: от тайн ФИФА до тайных фифочек женатых руководителей и футболистов всех клубов, и тем более сборной Союза, от силы удара ногой знаменитых форвардов и хавбеков до числа выбитых у них же зубов и переломов; знал, кто и сколько, кому и как, и с чьей подачи забил голов в любом году, в любом месте нашей необъятной страны: в 56-м году – пожалуйста, в 62-м – получите, в Москве, в Казани, в Киеве, в Барселоне – что еще угодно? Сколько квадратных метров жилплощадь у Стрельцова? А вам – в каком году?
Обо всем этом он рассказывал с пеной у рта и так заразительно, что даже полурафинированная учительница пения одной из московских школ, в очечках и с косой, с которой он познакомился на «Баядере», после того как во время действия несколько раз, забывшись, сжал соседке справа руку и хлопнул ее по ноге, – зачастила на футбол, о котором до этого не имела ни малейшего понятия. Она все время считала, что в футбол играет умственно неполноценная часть мужских особей, а болеет за них совсем уж сумасшедшая (то есть – все остальные мужчины), физически неполноценная часть.
Декану, ярому болельщику «Спартака», Саня сдавал зачеты и экзамены всегда последним, по часу, по два, причем он к ним совершенно не готовился, иногда даже не знал, что за предмет сегодня сдают. Декан же за этот час узнавал больше, чем за год из «Советского спорта» и от всех болельщиков на трибунах, вместе взятых. Саня болел за ЦСКА, и их мирные поначалу беседы кончались громким криком и швырянием стульев, но в конце концов оба оставались довольны, и Саня выходил с зачетом или отличной оценкой.
По любому из спорных моментов Саня спорил на бутылку шампанского и всегда выигрывал, так как никто в мире лучше него все равно не знал предмета спора. Кумиром его, разумеется, был Лев Яшин, и Саня часто прыгал на панцирную сетку студенческой койки, показывая, как Яшин немыслимо вытягивал пушечную «шестерку». Саня хрипло орал: «Вот так!», а кровать визжала, как свинья. Кстати, даже в том, что ему, с одной стороны, нравилась военная команда ЦСКА, то есть мощь и атака, а с другой, больше всего он обожал вратаря, как последнюю надежду команды, – психолог мог бы почерпнуть богатую пищу для рассуждений о цельности натуры Баландина. Но что это я, какой психолог, когда кругом одни психи?
В футбол, кстати, он играть не умел. Во всяком случае, никогда не гонял на баскетбольной площадке с ребятами мяч в так называемый «дыр-дыр».
Что же касается оперетты… Оффенбах, Штраус, Лекок, Кальман, Зуппе, Легар, Дунаевский – Саня приходил в экстаз от одного звука этих имен. Опереточный Олимп, это доказано, находился в его душе (поинтересуйтесь, при случае, у ответственного секретаря подготовленного к печати очередного издания «Энциклопедии»). Литавры и флейты, голубые глаза и обнаженные плечи, воркование речей и переливы арий, роскошь нарядов и упругость канкана, улыбки и ножки – ах, какой чарующий и радостный мир!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.









