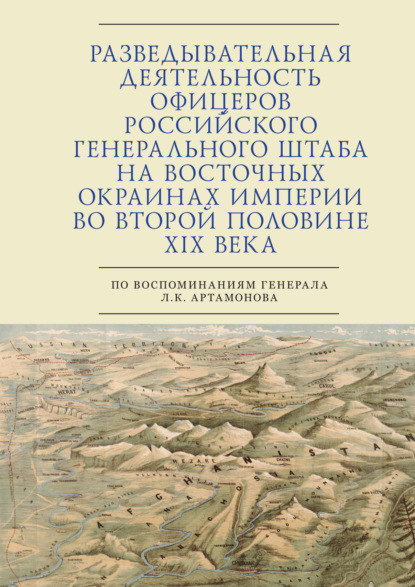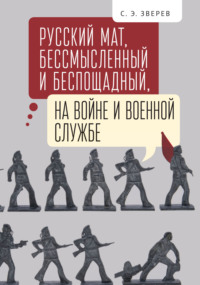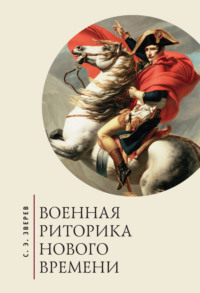Полная версия
Энциклопедия жизни русского офицерства второй половины XIX века (по воспоминаниям генерала Л. К. Артамонова)
Когда обиженному было невмоготу терпеть преследование «силача» в своем «возрасте», тогда физически сильный старший брат или друг во время послеобеденного гуляния находил обидчика-силача: подвергнув его чувствительному нравоучению, он грозил удесятерить наказание, если «силач» не перестанет преследовать обижаемого блата или клиента. На некоторое время это помогало. Но часто мстительный «силач» устраивал в отместку за свое посрамление какую-либо пакость своему врагу ночью и т. п. Словом, бороться с этим злом внешними силами часто становилось безнадежным. Иногда гонимые и обираемые, списавшись с родителями, бросали корпус. Были, хотя и редко, случаи самоубийства с отчаяния или покушения на самоубийства. «Силача» можно было смирить или силою собственной, или уплатой ему «дани», т. е. подачки булками, ситниками, котлетами во время обеда, сладостями или деньгами. Организованная группа «силачей» совершенно определенно накладывала на отъезжающих домой на праздники известную дань съестными продуктами, что в точности исполнялось даже самими родителями воспитанников, лишь бы это могло защитить от обид и огорчений.
Начальство корпуса в эту внутреннюю жизнь воспитанников почти совершенно не вмешивалось: лишь очень крупные скандалы и драки иногда обнаруживали все некрасивые стороны данного быта. Но ради общего и внешнего благополучия начальство вглубь не простиралось в своих расследованиях, ограничиваясь наказанием двух-трех лиц, ярко проявивших свою отрицательную деятельность. Среди «силачей» развивалась еще одна сторона деятельности, тоже крайне непривлекательная: из их среды выходили торговцы и ростовщики, торговавшие съестными продуктами, добытыми всякими способами; цены на продаваемые ими продукты, увеличивались на 300 % и более, против нормальной[цены]. Например], за утреннюю полубулочку брали две полубулочки и один ситник, за ситник – два ситника, за котлету – три котлеты и т. п. Неуплата своевременно влекла за собою пеню в одну булку или ситник. Неотдача долга влекла отдачу какой-либо ценной вещи, стоившей уже рубли. Наконец, безнадежного должника избивали так, что приходилось иногда избитого отправлять в лазарет. Самое избиение производилось ночью, с покрыванием головы одеялом и нанятыми исполнителями, часто из сильно задолжавших клиентов торговца-кулака. Вот таким силачом-торговцем и был казачок Медведев 3й, уже два года просидевший в I классе и с трудом переваливший во II класс.
Во всем нашем возрасте таких торговцев насчитывалось человек пять; из них наихудшими были казаки Сотченко и Медведев 3й, они же и «силачи»-руководители всей группы. В нашем «возрасте» насчитывалось около 150 человек, из них два отделения I класса и два второго класса. Всего в корпусе числилось по списку свыше 600 воспитанников в шести классах, которые делились в свою очередь на отделения от 30 до 45 человек. Впоследствии я узнавал и называл по фамилиям неточно каждого из 600 совоспитанников, но всех своих товарищей по «возрасту» знал по походке: не видя их, безошибочно называл по фамилиям каждого, если только слышал стук его сапог. Это было явлением нормальным для нас всех, при нашей совместной жизни.

Владимир Георгиевич фон Бооль
Время наше в каждом дне было строго и точно распределено по часам и минутам. Во главе учебного дела стоял ученый артиллерист и автор известного учебника физики (полковник арт[иллерии] Бооль[24]). Расписание занятий составлялось по новой системе и увеличенной учебной программе.
Всего занятия длились с 8 ч. утра до 4 ч. дня; большая перемена в течение ½ часа; малая – по 10 минут; рабочий час – 45–50 минут. В классах время даром не теряли. Если не прибыл почему-либо преподаватель, его замещал воспитатель, указывая, чем классу заниматься. Учебные уроки прерывались уроками гимнастики, фронта, танцев и пения. В общем, расписание составлялось заботливо. Гораздо тяжелее давалось приготовление уроков вечером от 6 до 8 часов в классах под наблюдением воспитателей. Эти два часа, без перемены и после утомления в течение дня, были тягостны. Кроме того, учить уроки надо было, сидя на своем месте за партой, при общем шуме и разговорах товарищей, а к этому не сразу можно было привыкнуть.
На следующий день учитель по своему предмету вызывал по книжечке по крайней мере 20 % учеников, ставя отметки; затем продолжал сам после того объяснять предмет преподавания дальше, задавая перед концом по учебнику следующий урок. Отметки ставились по 12-балльной системе. За несколько неудовлетворительных отметок в течение недели, особенно «нулей», «единиц» и «двоек», следовало строгое наказание лентяям, даже до порки розгами.
Учить уроки поэтому было необходимо. Кроме того, год делился на четверти, а в каждой четверти в конце были вакации по пройденной части предмета, причем спрашивал преподаватель всех и выставлял всем четвертные отметки.
Строго говоря, при добросовестном отношении к своему делу все время дня было заполнено; я с трудом первые недели мог справляться так, чтобы не навлечь на себя наказание или неудовольствие как начальства, так и товарищей. В классе, когда учитель спрашивает, особенно какого-либо головотяпа-силача, более серьезные старались ему подсказать, иначе грозила потом расправа. Успешное учение создавало некоторую репутацию способному ученику, но она не гарантировала его от физической обиды «силача», если ему вовремя не подана была подсказками помощь.
Так проходили обыкновенные дни недели. В субботу в 6 ч. вечера все, кроме уволенных в отпуск в город к родным, отправлялись в церковь, находившуюся во II этаже внутри главного корпуса здания. Церковь представляла огромный паркетный в два света зал с особым алтарем. Сюда свободно входило в большие праздники до тысячи душ молящихся. Пел хор своих же кадет под управлением учителя пения (И.Г. Солуха).
По возвращении из церкви и после вечернего чая все выстраивались в «возрастах» в рекреационном зале, куда являлось и все начальство «возраста». Здесь прочитывались недельные отметки за учение с «нулями», «единицами» и «двойками», записи в штрафные журналы особых проступков в классе. Неисправимые лентяи и рецидивисты-проказники вызывались перед фронт[ом] и подвергались публичной порке или отводились в карцер на «хлеб и воду» на указанный срок.
На воспитанников слабонервных, привыкших к мягкому домашнему уходу и ласке, эти расправы производили потрясающее впечатление. Помню первое наказание вновь поступившего со мною сверстника (Пирожкова) за разбитие в двойной раме стекла – результат неумеренной возни с товарищами и ослушания дежурного воспитателя, приказавшего прекратить эту возню, – он был присужден к розгам. Пирожкова положили на скамью, но после первых же ударов розгами наказанный от пережитого волнения сильно и жидко испражнился на себя и скамью, что вынудило начальство прекратить наказание, вызвав хохот среди стоящих во фронте товарищей. Но не для всех так скоро прекращалась расправа.
Вдохновителем такой меры наказания являлся прежде всего грозный директор г[енерал]-м[айор] Кузьмин-Караваев. Мы его видели редко, мельком, но всегда его появление сопровождалось наказанием кого-либо из подвернувшихся воспитанников. Он считал, что лишь такой устрашающий системой наказаний можно с успехом управлять вверенной ему массой детей. Сам он был женат, имел 6 дочерей разного возраста, был очень заботливый глава своей семьи, устраивая для нее всевозможные удобства и развлечения за счет корпуса, но, как потом оказалось, держал сторону вора-эконома, верил ему во всем и лично не входил в интересы своих питомцев, считая это мелочью ниже своего директорского достоинства.
Всем воспитанникам говорил «ты», обращался с ними всегда строго, резко и грубо, беспощадно назначал наказания за малейшие проступки в зависимости от своего настроения. Ходил он в сапогах на резиновых подошвах, являясь неожиданно там, где его не ждали, часто по доносу своих разведчиков из служителей корпуса. Карты, водка и самовольные отлучки в старших классах считались преступлениями, для изжития которых он не щадил берез кадетской рощи и тела виновных.
При этом директоре я пробыл два года, и общее впечатление у меня о нем сохранилось отрицательное. Небольшого роста, толстый, румяный, подвижный, с ястребиным носом и какими-то мутными навыкат глазами, он к себе не располагал, даже когда молчал, но когда начинал кричать, площадной бранью ругаться и топать ногами, визгливым голосом грозить провинившемуся кадету «запороть его насмерть», вызывал к себе просто отвращение. Все знали, что он ведет дела хозяйственные негодно, за счет желудка кадет.
Мы, учащиеся, при нем всегда были голодны. Уходя из столовой после обеда, мы старались набить карманы кусками черного хлеба «с лотка» и принимались его есть по возвращении в свой «возраст» или на гулянии. Это вечное недоедание было для нас, подрастающих и очень много двигающихся, сущим мучением. Счастливы были те, у кого от родных получались и припасы, и деньги. Но главная масса – это были дети семей бедных, сдавших в казну своих ребят и считавших поэтому всякую заботу о них лишней.
Это привело к ростовщичеству и торгашеству неимущих, но физически сильных дончаков и кавказцев и тяжкому положению бедной и голодающей главной массы всех воспитанников каждого «возраста». «Голод – не тетка», «сам себя не накормишь – никто не подаст», «нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет», а к этим поговоркам голодающие кадеты добавляли еще «не украдешь – не проживешь», и вот мгновенно снаряжалась из старших классов отчаянная экспедиция: с места гулянья, незаметно скрывшись от глаз дежурного воспитателя, отправлялась экспедиция к «кацапам», т. е. выходцам из Владимирской губернии, занимающимся огородничеством.
Кадетское начальство (директор) сдавало этим огородникам очень выгодно для него большие участки кадетской рощи (полянки) под всякие овощи. Осенью, когда все овощи поспевали, там можно было набрать картофеля, кочерыжки капусты, подсолнечников, наломать кочанов кукурузы. За этим и отправлялись экспедиции, в огромном большинстве случаев с удачными результатами. Картофель и кукуруза потом варились служителями у них на квартире и доставлялись кадетам.
Другие выдумщики устраивали нечто похожее на удочки, т. е. длинные палки с увязанными на конце большими заостренными гвоздями. Эта партия старших наших товарищей являлась на наше место гуляния, так как на наш плац выходили окна хлебного цейхгауза. Через решетчатую форточку такая удочка направлялась внутрь, нанизывали пару булок и подтаскивали их к форточке, где сотоварищ по экспедиции уже рукой снимал через форточку булки. Мы в это время держались в отдалении, чтобы не мешать добытчикам, иначе можно было сильно пострадать за то, что помешали в их работе. Иногда добытчики ловились, и расправа с ними была беспощадна. Но это нисколько не устрашало «голодающих», которые изыскивали новые способы добычи запасов корпусного эконома.
Однако хранение, да, вероятно, и недобросовестная закупка продуктов экономом, сказывались на их качестве. Одну неделю мы каждый день получали гречневую кашу, то как приправу ко второму блюду, то самостоятельно, с хорошо прожаренным светлым салом («шкварками»). Первые дни мы ее ели, хотя нам претил какой-то привкус в ней, но дальнейшая партия крупы настолько разила крысиным пометом и[прогорклостью, что мы перестали есть и заявили через выборных претензию эконому. Он наших выборных изругал и объявил, что доложит о нашем поведении директору, так как он исполняет лишь директорское распоряжение. Возмутились прежде всего старшие классы, откуда были посланы агитаторы во все возрасты: «Каши не есть, а когда ее подадут, из всех баков вывалить ее на пол около столов в одну кучу, против каждого стола».
Каша была в этот день дана самостоятельно, вторым блюдом. Качество было прежнее, т. е. неудовлетворительное. По какому-то условному сигналу сразу все поднялись со своих мест, и кашу выбросили на пол… Дежурные воспитатели закричали, восстанавливая порядок; на это раздался крик и визг: «Гнилая каша!», – повторяемый сотнями голосов. Эконом побежал за директором.
К его приходу водворилось полное молчание. Ему пришлось идти по грудам каши, скверный запах которой был лучшим докладчиком о причине мятежа и тяжкого нарушения дисциплины. Он свирепо всех нас обводил глазами и грозно потребовал выдать зачинщиков. На это все отвечали молчанием. Тогда он приказал выпороть по списку всех замеченных в возрастах в неисправимо дурном поведении. Но каша больше в нашем обеденном меню не появлялась. Эконом накляузничал на посылку к нему депутатов и кое на кого указал лично. Таким бедняжкам досталось сильно. Все же директор и эконом стали осторожнее и внимательнее. Кое-кто из кадет после порки были и исключены за этот мятеж.
Но для репутации директора это дело оказалось неблагоприятным. Родители некоторых воспитанников, влиятельные в высших сферах, обратили внимание кого следует на хозяйственные дела корпуса, и из Петербурга нежданно приехал ревизор, в руках которого оказался неприятный для директора материал. Год еще директор у нас пробыл, а затем неожиданно был уволен. Но вернемся пока к его еще владычеству.
На меня мятеж, вызванный «гнилой кашей», произвел большое впечатление. Как и в классической гимназии, я понял, что мы, 600 с лишним душ, составляли живой организм, имеющий свою волю, которая проявляется в какие-то трудные для этого организма минуты жизни совсем помимо установленной начальством организации. И власть официальная с этой внутренней силой вынуждена считаться…
День за днем, неделя за неделей потянулись однообразно, по установленному трафарету для нашей жизни. Они были так однообразны, а время так урегулировано, что лишь праздниками мерил я текущее время.
Так промелькнула первая четверть. В классе я занимался усердно, учение давалось мне легко, и моя репутация установилась и в глазах преподавателей и товарищей довольно приличная. В конце первой четверти были репетиции, а в общем, все для меня сложилось по-хорошему. Я написал домой мое первое письмо с приложением четвертных отметок по всем предметам и мнения моего воспитателя. По правилам корпуса, мы могли писать письма домой только с разрешения воспитателя и его цензурой. Первые месяцы я ничего утешительного родителям написать не мог, а жаловаться на свое житье в корпусе было бы нелегко, да и воспитатель бы не пропустил такого письма.
С братом мы виделись довольно часто, но я знал, что он ничего не предпримет для улучшения моего положения. От него я слышал только строгие резонерские советы, как себя держать. В свою же личную жизнь он меня не вводил, хотя я знал, что у него есть друзья – семьи, где он часто бывает по праздникам. С товарищами я держался довольно ровно, не входя ни с кем в особенно тесную дружбу.
В свободное от занятий время я кое-что стал читать. В нашем корпусе была очень обширная и богатая библиотека, но запущенная. главную массу книг составляли огромные фолианты классических сочинений, недоступных нам, малышам. Книги из библиотеки брали более воспитанники старших классов. К нам же книжки для чтения, доступные нашему возрасту, попадали случайно. Вот среди таких книжек как-то попала в мои руки «Семейная хроника» Аксакова. Памятуя, что я уже какую-то «Семейную хронику» (перевод с английского) раньше забраковал, я и к Аксакову отнесся с пренебрежением, лишь перелистав его. Но при каком-то случае, не зная куда деться, так как очень скверная погода сократила наше гулянье, я взял эту книгу, где-то в середине раскрыл и стал читать… Я опомнился только тогда, когда сигнал «сбор на вечерние занятия» оторвал меня от окна, у которого я было пристроился. «Семейная хроника» так меня захватила, что, наскоро приготовив уроки, я продолжил чтение за партой, вызвав замечание воспитателя за нарушение инструкции, требовавшей в это время только готовить уроки. После вечернего чая и молитвы я пристроился к лампе портных и читал около них, пока не прогнал меня дежурный спать.
В последующие дни я продолжал с увлечением читать во всякую свободную минуту. Избегая товарищей, издевавшихся над моим увлечением, я в рекреационное после обеда время пробирался тайком в свой класс. Хотя классы запирались на замок, но верхние фрамуги огромных входных дверей (со стеклянной рамой) оставлялись для вентиляции без стекол. Я взбирался по двери, становясь на ручку, хватался за проем верхней фрамуги и перелезал свободно в класс; здесь я около окна залезал под парту, боковая стенка которой прикрывала меня от застекленной двери, и спокойно читал почти до возвращения всех возрастов с прогулки, не вызывая ничьего внимания за свое отсутствие. Перед началом вечерних занятий классный служитель заблаговременно отворял ключом дверь, и я на законном основании находился на своем месте. Я часто пользовался таким убежищем для чтения, вызывая иногда удивление товарищей, куда я исчезаю с прогулки. Моего же секрета я никому не открывал.
Мне удалось так прочитать и всю «Семейную хронику», и «Детские годы Багрова-внука», причем я теперь понимал, испытывал и переживал все чувства автора этих чудных произведений.
Понравились мне также уроки географии молодого, но очень искреннего и увлекающегося преподавателя г. Любимова. Я стал в классе записывать за ним, составился из этих записей очень приличный конспект, который мне очень помог к четвертной репетиции. Мой конспект стали спрашивать и товарищи, а один из более состоятельных предложил мне рубль за копию моего конспекта, что я и выполнил добросовестно. Этот рубль был моим первым самостоятельным заработком и жизни и очень мне помог.
Очень интересно и увлекательно преподавал нам рисование учитель г. Саратов. Мы с особой радостью спешили в рисовальный зал, стены которого были увешаны лучшими рисунками карандашом, итальянской тушью, акварелью и даже картинами в масляных красках, исполненными за период жизни корпуса его питомцами, учениками г. Саратова. Кое-какие способности оказались и у меня, а при окончании корпуса, в числе других, на стенах рисовального зала оказались и мои скромные работы. К сожалению, я мало и неупорно работал, а потому рисовальщик из меня вышел все-таки плохой. Но уроки рисования в корпусе я до сих пор вспоминаю с истинным удовольствием.
Языки иностранные нам преподавали большие оригиналы: французский язык – г. Герре и г. Veille, а немецкий – г. Kamnech (Камныш). В маленьких классах все правила произношения, отдельные короткие фразы и разные исключения неправильных глаголов и других частей речи мы должны были заучивать все хором, громко и нараспев по указанию учителя, который сам с нами пел и дирижировал, ударяя квадратом по парте. Несмотря на все наше усердие, этот метод не давал реальных результатов: оканчивая корпус, никто из нас на этих иностранных языках говорить не мог, и переводил с трудом незнакомую книгу. Дух языка оставался для нас неуловим, невзирая на знание грамматических правил и массы слов. В чем тут секрет, я и до сих пор не знаю. Но добросовестно заблудившиеся в своем методе преподаватели занимались в положенные часы с нами очень усердно.
Все другие предметы преподавались обычным установленным порядком, с задаванием уроков по учебнику и с дополнительными разъяснениями. Уроки спрашивались строго, отметки ставились скупо и работать, в общем, понуждали.
Занятия физического характера (гимнастика, фронтовое учение и танцы) имели по несколько часов в неделю (гимнастика каждый день), требуя от нас большого движения и напряжения. Учителя добросовестно относились к делу, и результаты сказывались наглядно. Это я испытал не себе. Не забыв обиды, нанесенной мне казачком Медведевым 3м, я так усердно занимался гимнастикой, что удостоился похвалы самого учителя. Я мог быстро влезть по тонкому шесту и по канату, вертеться на трапеции, притянуться много раз на наклонной лестнице и подняться по ней на руках. К зиме я настолько окреп, что вызывал зависть многих более слабых товарищей. Однажды, в какой-то игре в рекреационном зале мы сошлись с Медведевым 3м: он с презрением меня толкнул. Я отвечал ему тем же, он разгорячился и бросился на меня; я не дал ему схватить себя подмышки, а извернулся и крепко его захватил. Мои мышцы оказались достаточно сильны, чтобы его не выпустить. Наша борьба моментально обратила внимание всего возраста, и около нас образовался круг. Мы долго молча боролись, и, наконец, я положил его на обе лопатки, надавав ему тумаков за презрение. Мой успех был встречен шумным одобрением, и я тогда только выпустил из-под себя «силача-торговца». С этих пор меня зря трогать опасались, а Медведев 3-й меня стал даже избегать. Более слабые товарищи, часто обижаемые, стали относиться ко мне лучше и держались ближе, рассчитывая уже более уверенно на мою защиту. Словом, я почувствовал великое значение в нашей среде крепких мускулов и возможности самому за себя постоять.
Среди других обязательных по расписанию занятий дня были уроки танцев и пения. Первые состояли для нас, малышей, строго говоря, в мучительных проделках всяких «pas», глядя на учителя и по его счету, под скрипку учителя музыки г. Гино, старого немца, которому помогал его сын. Первые годы поэтому обучение танцам мало чем отличалось от шведской гимнастики, а потому приносило некоторую пользу. Уроки пения состояли в начальном объяснении нот, а затем в хоровом пении старинных русских песен (и народных, и военных). Для нас, малышей, по преимуществу избирались стихотворения, положенные на музыку, очень удачно выбираемые учителем пения И.Г. Солухой. Это был молодой и даровитый музыкант, страстно преданный своему делу, который вселял в нас любовь к пению.
Среди украинцев Юго-Западного края было много детей с превосходными голосами и природным слухом. Г[осподдин] Солуха легко набирал лучшие голоса, а церковный хор, которым он руководил великолепно. Но помимо того, пение хором само собою очень привилось в каждом возрасте; всякий день перед вечером в рекреационном зале или где-либо в отдаленном углу коридора непременно собиралась группа любителей и стройно пела, преимущественно малорусские песни, забывая об играх и др. развлечениях. Меня тоже потянуло к таким любителям, и мы часто наслаждались пением. Мой голосишко составил мне рекомендацию, и я, по подсказу товарищей, был г. Солухой взят в церковный хор. Занятия в хоре проводились в рекреационное время, раза три в неделю. Но зато певчим полагалась в субботы и во все воскресенья кружка молока с булкой. По кадетскому масштабу, это была завидная премия.
Так пробежало время до зимы, которая внесла в наши гулянья большую перемену. Мы гуляли только по расчищенным в снегу проходам вокруг зданий корпуса, и по очереди ходили на каток на кадетский большой пруд, где летом можно было купаться. Нам, малышам, выдали по паре примитивных коньков на каждых двух человек, и мы по очереди учились кататься на коньках. Предпочитали первое время просто «ковзаться по льду», т. е. расчистив на льду по длине дорожку, и с разбега скользить на собственных ногах.
Но драки стенками больших партий друг против друга были очень популярны. Зима принесла и множество интересных для нас слухов о елках, которые начальство предполагало устроить в каждом возрасте, с подарками для всех, кроме штрафованных за серьезные проступки.
Устройство елок было для нас всех новостью, потому что, по рассказам стариков, в прежнем кадетском корпусе их не устраивали. Несомненно, что это было одно из нововведений в преобразованных военных гимназиях. Мы все много об этом толковали и по-детски волновались. В жизни своей я еще никогда на елке не был, так как в нашей семье, как и в других семьях нашего круга в крае, этот немецкий праздник не был в ходу и не вошел в обычай, кроме редких каких-либо заезжих к нам с севера семей.
Первых рождественских праздников поэтому мы, малыши, ждали с особым нетерпением. Корпусные интересы и сама жизнь настолько меня охватили. Что я только с приближением праздника Р[ождества] Х[ристова] стал опять много думать о нашей семье и даже… затосковал.
Однажды, пришедший ко мне на свидание брат Миля обратил внимание на мое удрученное состояние духа. Узнав, что ничего со мною дурного не приключилось, он пообещал мне на предстоящий большой праздник вместе с ним навестить его друзей – семью покойного учителя русского языка И.Г. Мокиевского. Сам учитель умер до моего поступления; его семья жила в Киеве у своих родственников Волковых в собственном их доме на Бибиковском бульваре. Это меня несколько подкрепило: не так тяжела показалась наша серенькая штампованная жизнь. Из дома я получал очень редко известия, да и то через брата. Дома шло все нормально.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.