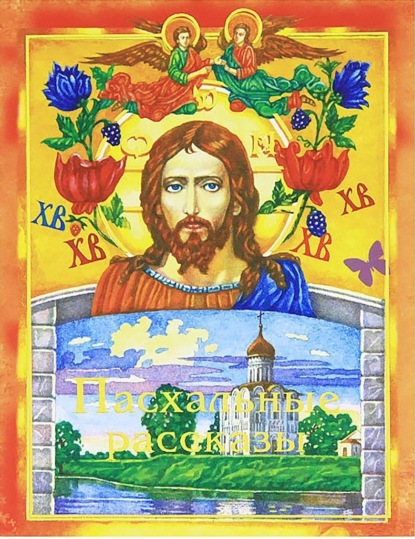Полная версия
Святочные рассказы
Я отвечаю:
– Это, брат, сверх моего понимания. Как об этом в Писании?
А Тимофей говорит:
– В Писании есть: «Все Тот же Христос ныне и во веки», – я не смею не верить.
– Что же, – говорю, – и верь.
– Я велю что день на столе Ему прибор ставить.
Я плечами пожал и отвечаю:
– Ты меня не спрашивай, смотри сам лучше, что к Его воле, а в приборе Ему обиды не считаю, но только не гордо ли это?
– Сказано, – говорит, – «Сей грешники приемлет и с мытарями ест».
– А и то, – отвечаю, – сказано: «Господи! Я не достоин, чтобы Ты взошел в дом мой». Мне и это нравится.
Тимофей говорит:
– Ты не знаешь.
– Хорошо, будь по-твоему.
Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом лишнее место. Как садятся они за стол пять человек, – он, да жена, да трое ребяточек, – всегда у них шестое место в конце стола почетное, и перед ним большое кресло. Жена любопытствовала: что это, к чему и для кого? Но Тимофей ей не все открывал. Жене и другим он говорил только, что так надо по его душевному обещанию «для первого гостя», а настоящего, кроме его да меня, никто не знал. Ждал Тимофей Спасителя на другой день после слова в розовом садике, ждал в третий день, потом в первое воскресенье, но ожидания эти были без исполнения. Долгодневны и еще были его ожидания: на всякий праздник Тимофей все ждал Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь Свое обещание сдержит – придет. Открывал мне Тимофей так, что «всякий день, – говорит, – я молю: «ей, гряди, Господи!» – и ожидаю, но не слышу желанного ответа: «Ей, гряду скоро!» Разум мой недоумевал, что отвечать Тимофею, и часто я думал, что друг мой загордел и теперь за то путается в напрасном обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе.
* * *Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей приходит ко мне на сочельник и говорит:
– Брат любезный, завтра я дождусь Господа.
Я к этим речам давно был безответен и тут только спросил:
– Какое же ты имеешь в этом уверение?
– Ныне, – отвечает, – только что я помолил: «Ей, гряди, Господи!» – как вся моя душа во мне всколыхнулася и в ней словно трубой вострубило: «Ей, гряду скоро!» Завтра Его святое Рождество – и не в сей ли день Он пожалует. Приди ко мне со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет.
Я говорю:
– Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чем этом судить не умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, но ты нам свой человек – мы к тебе придем. А ты, если уповательно ждешь столь великого гостя, зови не своих друзей, а сделай Ему угодное товарищество. – Понимаю, – отвечает, – сейчас пошлю услужающих у меня и сына моего обойти села и звать всех ссыльных – кто в нужде и бедствии. Явит Господь дивную милость – пожалует, так встретит все по заповеди.
Мне и это слово его тоже не нравилось.
– Тимофей, – говорю, – кто может учредить все по заповеди? Одно не разумеешь, другое забудешь, а третье исполнить не можешь. Однако, если все это столь сильно «трубит» в душе твоей, то да будет так, как тебе открывается. Если Господь придет, Он все, чего недостанет, пополнит, и если ты кого Ему надо забудешь, Он сам приведет.
Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей, попозже, как ходят на званый стол. Так он звал, чтобы всех дождаться. Застали большие хоромы его полны людей, всякого нашенского, сибирского, засыльного роду. Мужчины и женщины и детское поколение, всякого звания и из разных мест, – и российские, и поляки, и чухонской веры.
Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с прибытия не оправились на своем хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем чем надобно. Батрачки бегают, квасы и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалося, да и ждать больше было некого: все послы домой возвратилися, и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась метель и вьюга, как светопреставление.
Одного только гостя нет и нет, – который всех дороже. Надо было уже и огни зажигать да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло и все мы ждем в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами. Тимофей ходил и сидел и был, видно, в тяжкой тревоге. Все упование его поколебалось, – теперь уже видное дело, что не бывать «великому гостю». Прошла еще минута, и Тимофей вздохнул, взглянул на меня с унылостью и говорит:
– Ну, брат милый, вижу я, что либо угодно Господу оставить меня в посмеянии, либо прав ты: не умел я собрать всех, кого надо, чтоб Его встретить. Будь о всем воля Божия: помолимся и сядем за стол.
Я отвечаю:
– Читай молитву.
Он стал перед иконою и вслух зачитал: «Отче наш, Иже еси на Небесех», а потом «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите, Христос на земли…» И только это слово вымолвил, как что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже все зашаталось, а потом сразу же прошел шум по широким сеням, и вдруг двери в горницу сами вскрылися настежь.
* * *Все люди, сколько тут было, в неописанном страхе шарахнулись в один угол, а многие пали, и только кои всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял старый-престарый старик, весь в худом рубище, дрожит и, чтобы не упасть, обеими руками за притолки держится; а из-за него из сеней, где темно было, – неописанный розовый свет светит, и через плечо старика вперед в хоромину выходит белая как из снега рука, и в ней длинная глиняная плошка с огнем, такая, как на беседе Никодима пишется… Ветер с вьюгой с надворья рвет, а огня не колышет… И светит этот огонь старику в лицо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший старый шрам, весь побелел от стужи.
Тимофей как увидал это – вскричал:
– Господи! Вижу и приму его во имя Твое, а Ты Сам не входи ко мне: я человек злой и грешный, – да с этим и поклонился лицом до земли. А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей покорностью тронуло, и воскликнул всем вслух:
– Молитесь: Христос среди нас!
А все отвечали:
– Аминь, – то есть «истинно».
Тут внесли огонь, – я и Тимофей восклонились от полу, а белой руки уже не видать, – только один старик остался. Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик, – может быть, вы и сами догадаетесь, – это был враг Тимофея, дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что все у него пошло прахом, и семьи, и богатства он лишился, и ходил давно, чтобы отыскать племянника и просить у него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в эту метель сбился с пути и, замерзая, чаял смерти единой.
– Но вдруг, – говорит, – кто-то неведомый осиял меня и сказал: «Иди, согрейся на Моем месте и поешь из Моей чаши», – взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе.
А Тимофей при всех отвечал:
– Я, дядя, твоего Провожатого ведаю: это Господь, который сказал: «Аще алчет враг твой – ухлеби его, аще жаждет – напой его». Сядь у меня на первом месте – ешь и пей во славу Его и будь в дому моем во всей воле до конца жизни.
С той поры старик так и остался у Тимофея и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в сердце своем. Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце тоже может быть такими яслями, если оно исполнит заповедь: «Любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас», – и Христос придет в сердце его, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель.
Неизвестный автор
В сочельник
Свинцовое небо и свинцовая, пустынная равнина моря, вздымающаяся от волн. Повсюду, насколько может видеть глаз, – только небо да море, море и небо – и больше ничего. Но вот что-то карабкается по водной поверхности, прыгает то вверх, то вниз; что-то качается вправо и влево, как маятник. Это – одинокое судно, шхуна, идущая под парусами; впереди и позади нее поднимаются волны и осыпают брызгами ее широкий, неуклюжий корпус. Невеселая картина: однообразное, безотрадное, осеннее море и по волнам его плывет это невзрачное купеческое судно. На нем находится отец Коли и Валентины – капитан Григорьев. Одетый в непромокаемое пальто и широко расставив ноги, он стоит на мокром и качающемся мостике и пристально глядит вперед. Вокруг него ревет море, ветер дует так, точно сорвался с привязи, но все помыслы капитана обращены не на борьбу с разъярившейся стихией, а на то, как-то теперь чувствует себя дома его маленькая дочь Валя, которая была при смерти, когда он находился в плаванье за границей. Тетка Анна телеграфировала ему, что у Вали тиф, и с тех пор капитан не мог опомниться. Он даже впал в такое состояние, в каком его еще не видывали в море ни разу: он утратил свое ледяное спокойствие и стал нервничать, как женщина.
– Штурман!
– Есть, капитан!
Григорьев стоял неподвижно крепко; скрестив руки на груди, он смотрел из-под нависших густых бровей глубоко впавшими глазами на надвигавшуюся ночную темноту. Помолчав немного, он показал пальцем вверх.
– Ставьте парус… – сказал он.
Штурман Семенов, тоже опытный моряк, вытер с лица соленые брызги и с беспокойством посмотрел на капитана.
– Мы и без того уже поставили много парусов, капитан, – сказал он. Капитан Григорьев строго посмотрел на штурмана.
– Нам нужно скорее домой… – сказал он. – У меня умирает дочь! Делайте то, что вам велят.
Приказание было исполнено, но едва только парус был поднят, как налетевший ветер разорвал его в клочья и разнес их по поверхности моря.
Но подвигаться вперед было нужно во что бы то ни стало! Каждый просроченный час казался капитану невосполнимой потерей. Чем ближе подходил он к родине, тем становился все возбужденнее и нервнее. Вперед! Вперед!
– Капитан! – крикнул сквозь вой ветра штурман на ухо Григорьеву, крепко ухватившемуся за перила. – Нам недолго еще держаться этого пути. Скоро мы погибнем!
Григорьев взял в руки зрительную трубу, выставил ее за борт и стал молча смотреть в нее.
– Доверьтесь мне, – сказал он, – я доставлю вас всех невредимыми на берег.
– Я не о себе хлопочу, капитан, – продолжал Семенов. – У нас на судне есть матросы, у которых тоже есть жены и дети. Они думают о своих детях так же, как и вы, но ведь они же исполняют свой долг и плывут куда им приказано. Зачем же вы повернули корабль совсем в другую сторону и ведете его туда, куда нам вовсе нет дороги? Ведь мы погибнем!
– У меня заболела дочь, и я хочу ее увидеть во что бы то ни стало…
– В таком случае матросы сами повернут корабль на прежний путь, – продолжал Семенов. – Я только исполнил свой долг, предупредив вас о желании команды.
Сильная борьба возникла в душе у капитана; он видел, он сознавал, что это отчаянное положение корабля он сам же создал, желая поскорее увидеть свою больную дочь.
– Иван! Никита! – крикнул он наконец.
Заведовавший парусами боцман Иван и плотник Никита предстали перед капитаном. Матросы гурьбою стали сзади них.
– Вы хотите принудить меня поставить корабль на прежний путь? – обратился к ним капитан.
Иван и Никита молчали.
– Отвечайте же! – крикнул на них капитан.
– Мы хотим исполнить свой долг… – ответил, наконец, боцман Иван. – Мы нисколько не хотим ослушаться вас, потому что мы знаем, что вы наш отец, а мы ваши послушные матросы. У нас тоже есть жены и дети, но вы ведете нас на верную смерть, и мы просим вас сжалиться над нами и повернуть корабль на прежний путь.
Капитан подумал, а потом безнадежно махнул рукой.
– В таком случае поворачивайте назад! – сказал он наконец.
Работа закипела. Но лишь только корабль стал повертывать назад, как на него налетела снежная буря. Он лег набок, потом выпрямился, а вслед за тем чудовищная волна с шумом покрыла всю его палубу. Шлюпки и прикрытия над палубой были тотчас же снесены в море. Не прошло и пяти минут, как сломалась бизань-мачта, а за нею грохнул и фок.
– На штирборт! – скомандовал капитан.
Экипаж оживился. Все стали работать так, как не работали никогда. Брызги моря, темнота и снег не позволяли даже различить руку, поднесенную к глазам. Это были минуты, когда казалось, что разверзся ад и что человек отдан в жертву разъяренной, бурной стихии. Но Григорьев стоял среди всего этого хаоса разрушения, как лев. Корабль получил пробоину, наполнялся водою и теперь уж оставалась единственная надежда на спасение – это как можно скорее выброситься на берег, пока судно еще не пошло ко дну.
– Теперь уж погибли! – шепнул штурман Семенов и перекрестился. – Да простит меня Бог!
На пне фок-мачты кое-как удалось укрепить палку и выкинуть на ней белый флаг – призыв о помощи.
Устало и безучастно работали люди, выкачивая ледяную воду. Господи, хоть бы поскорее рассветало! В такую ночь малейший луч света может возродить в человеке надежду на спасение. И этот луч блеснул.
Но это был не дневной свет. Это был огонек на берегу.
– Только еще Овечий Кут, – пробормотал Семенов и стиснул зубы. – До порта еще далеко.
Капитан приказал распределить между людьми спасательные пояса.
Судно вдруг вздрогнуло всем корпусом от сильного удара. Оно коснулось земли. Затем его снова приподняло, ударило еще раз, опять приподняло и, наконец, крепко посадило на мель среди бурунов. Огонек из Овечьего Кута светил теперь слабо и уже с другой стороны. У потерпевших крушение не было ничего, чем бы они могли дать о себе знать на берег. Держаться на палубе они также не могли, сбившись в одну кучу и прижавшись друг к другу там, где было посуше; они тупо глядели во мрак, возлагая последнюю надежду на остатки судна.
Их обдавало снежной вьюгой и брызгами пенящихся волн. Подобно насторожившемуся тигру, они налетали на них, неся беспрерывное разрушение. Вдруг раздался треск по всему остову. Каждый схватился за свой пробковый пояс; затем все стали в темноте нащупывать руками друг друга, желая выразить этим свой навеки прощальный, последний привет, и исчезли в морской глубине…
* * *– Негодный Колька, ты опять будишь Валю? Отойди от нее! – сердито вскрикнула тетка Анна.
Коля молча выскользнул из темного угла, в котором стояла маленькая кроватка Вали, и сел на деревянный стул в другом углу, у окна. Это была у него привычка – прятаться по углам, основывавшаяся на том, что этим способом он избегал шлепков от тетки Анны.
В это время тоненький голосок из темного угла жалобно проговорил:
– Оставьте его, тетя! Ведь завтра я встану!
Тетка Анна сидела у другого окна сумрачной комнаты и вязала. Ее длинное туловище раскачивалось в такт какой-то, только ей одной слышной, музыке, – и это, при недостаточном освещении комнаты, придавало ей вид привидения. Она вытащила спицу из шерстяного чулка, провела ею по своим волосам, затем опять вложила ее в вязанье и замелькала остальными спицами. После некоторого молчания она проговорила:
– Чего прячешься? Все равно изобью! И зачем только ты живешь на этом свете? Вот погоди, приедет отец, я пожалуюсь ему, он тебя выдерет!
Коля и в самом деле был убежден в том, что он – не что иное, как лишний человек, что никто даже и постичь не может, зачем именно он появился на свет Божий. Добрые люди давно уже рассказали ему, – а ему теперь уже 12 лет, – что, как только он родился, его мать умерла; рассказали ему также и то, что, когда ему было четыре года, он уложил в могилу свою мачеху, мать Вали. Мачеха была тяжко больна, а он, по своему неразумию, впустил к ней в спальню кошку, чтобы та поиграла с Валей, которой тогда был всего только год.
Кошка же ночью улеглась на сестренку, а когда мачеха, удивленная наступившей тишиной, стала брать в темноте на руки ребенка, то кошка прыгнула ей прямо в лицо. Это так испугало мачеху, что она уже не смогла оправиться от болезни и умерла.
Колю тогда не высекли, а только заставили смирно сидеть в углу, где на него никто долго не обращал внимания. К нему подошла одна только кошка. Но отец схватил ее и перебросил через забор, где она и осталась навеки с разбитой головой. Коля же получил толчок ногою, от которого и с ним чуть не случилось то же, что произошло с кошкой. Затем весь дом оделся в черное и мать Вали вынесли в желтом гробе с белыми кружевами, а отец припадал к гробу и громко плакал.
И всему этому виною был только он один! И только потому, что впустил в спальню кошку. С тех пор все в доме его стали ненавидеть.
Серый туман, сквозь который фонари на мосту мерцали робкими красноватыми огоньками, тяжело висел между черными деревянными амбарами, заборами и задами домов. Коля все еще продолжал сидеть в своем углу и смотреть на медно-зеленую крышу церкви, где еще мог различить на вершине колокольни ободок. Этот ободок был выкован из бронзы на деньги, отобранные у знаменитого морского разбойника Урсати. Коля знал это доподлинно. С каким бы удовольствием он сделался морским разбойником и накопил бы себе столько же денег! Он подарил бы их отцу, который постоянно нуждается в них. Может быть, отец после этого стал бы его любить! Валя тоже плавала бы вместе с ним на его судне и стряпала бы ему что-нибудь вкусное. О, это было бы хорошо! А тетка Анна? Ну, ее-то он продержал бы по крайней мере целый год на цепи среди привидений, змей и саламандр в подземелье своего разбойничьего замка. Если бы она попросила прощения, то он дал бы ей полную горсть золота на пропитание и отпустил бы ее. Он не был бы совсем жестоким и безбожным разбойником…
Тетка Анна поднялась с места и этим прервала его мечты. Она вспомнила, что в лампу нужно было налить керосину, и ушла в кухню. Едва только она скрылась, как Коля подскочил к кроватке. Брат и сестра обнялись и прижались друг к другу щеками.
– Знаешь, Валя, – обратился Коля к сестре, – что я хочу сделать папе в подарок к елке, когда он придет с моря?
– Нет… – ответила Валя чуть слышно.
Глаза Коли заблистали.
– Наш корабль, на котором плавает папа… – продолжал он. – Корпус у меня уже готов. Я купил его за 20 копеек…
– Откуда же ты взял эти деньги?
– Я сделал маленький кораблик и продал его какому-то господину, который проходил по улице мимо нашего дома.
В это время на улице вдруг сильно хлопнула входная дверь и послышались чьи-то рыдания и жалобный, плачущий голос.
Это были жены штурмана Семенова и Никиты. Тетка Анна выбежала им навстречу и стала тоже громко плакать.
Что же это такое? О чем они так плакали? У детей похолодело под сердцем.
Коля стал прислушиваться, и до него долетели странные, отрывочные слова:
– Сейчас пришла телеграмма… Судно потерпело крушение… Погибли все, все до одного.
Валя вскрикнула, соскочила со своей кроватки и босиком бросилась из комнаты к тетке, а Коля так и окаменел, оставаясь на месте.
Но это было неверно. Отец их спасся. Он выплыл на берег, был подобран каким-то рыбаком и долго пролежал у него без памяти, находясь между жизнью и смертью.
* * *Прошел месяц. Наступил сочельник.
Нагоравшая светильня сального огарка склонилась на сторону и, распространяя чад, освещала красноватым пламенем окоченевшие пальцы маленького Коли, державшего в руках красиво оснащенное судно. Этот же огарок освещал стропила крыши, старую, убогую кровать и разрисованное морозными узорами маленькое чердачное окошечко. Коля дрожал от холода.
Послышался тихий стук в дверь. Мальчик вскочил со стула и отодвинул засов. Вошла Валя с растрепанными волосами, в коротеньком фланелевом платьице и с теплым платком на плечах.
– Сейчас твоя свечка догорит, – сказала она, оглядывая со страхом темную комнату. – Тебе не страшно будет впотьмах?
– Нет… – ответил Коля. – Только вот холодно немного!
– Отчего же ты не сойдешь вниз?
– Хозяин будет бить меня. С тех самых пор, как утонул наш папа и тетя отдала меня в услужение к сапожнику, он бьет меня каждый день. – За что же он бьет тебя?
– За то, что я не умею шить сапоги и сорю, когда по ночам делаю кораблик.
Валя глубоко вздохнула, и дети долго молча просидели вместе на чердаке.
– Если б был жив наш папа, – нарушила наконец молчание Валя, – то у нас сегодня была бы елка…
– Да… – ответил Коля. – Но тебе бы сделали подарок, а мне нет….
– Почему же?
– Потому что… потому что папа не любил меня. Тебя любил, а меня нет…
Валя виновато опустила глаза и опять глубоко вздохнула.
– А все-таки хорошо, когда бывает елка, – сказала она. – Так весело, приятно… Блистают огоньки…
Валя с грустью поглядела на кораблик.
– Мне так бы хотелось, чтобы у нас была елка!
Коля со всех сторон оглядел свой кораблик.
– Знаешь что? – сказал он, и глаза его заблестели. Ему стало жаль сестру. – В третьем этаже нашего дома, с парадной лестницы, живет какой-то богатый господин. Я видел, как однажды ему подали лошадь и как он сел в коляску и куда-то укатил. Должно быть, это доктор или важный барин… Пойдем к нему и попросим его, чтобы он купил у меня этот кораблик… Тогда мы купим себе гостинцев, я отпрошусь у хозяина, приду к вам и мы устроим вместе елку… Хорошо?
Валя с грустью поглядела на кораблик.
– А тебе не жаль его? – спросила она. – Ведь ты его готовил для папы!
– Но ведь папы уже нет… – ответил Коля. – Он утонул.
На глазах у детей заблестели слезы.
Увидев, что Валя плачет, Коля взял в одну руку кораблик, а другую решительно протянул сестре.
– Пойдем! – сказал он.
– Куда?
– К важному барину!
Они вышли из чердака, спустились по грязной лестнице во двор, затем вышли на улицу и с парадного крыльца стали подниматься к «важному дяде». Вот и его квартира. У двери стоит большая связанная елка, распространяя вокруг себя хвойный запах. На елке лежит еще снег, – значит, эту елку только что купили и только что внесли в дом и поставили на парадной лестнице.
Коля поднимает руку и нажимает звонок. Динь-динь-динь!..
Детям отворяет горничная с белой наколкой на голове и говорит:
– Доктор уже окончил прием… Он принимает только до четырех часов!..
Но, увидев печальные лица детей, она смягчается и впускает их в кабинет.
– Войдите, – говорит она. – Быть может, доктор вас еще примет.
Они входят в кабинет… Спущены занавески, сумрачно, на столе стоит электрическая лампа и освещает весь угол. У стола сидит сам доктор в очках и водит карандашом по бумаге.
– Что у вас болит, детки? – спрашивает он их.
Коля смело выступает вперед и протягивает ему кораблик.
– Господин доктор, – говорит он, – купите у нас вот этот корабль. Я готовил его в подарок своему папе, но папа потерпел крушение и утонул, и теперь мы с сестрой остались сиротами. Нам хочется иметь сегодня елку, но у нас нет денег, и вот я принес вам мой кораблик.
Доктор взял от него корабль и оглядел его со всех сторон.
– Где ты купил его? – спросил он Колю.
– Я его сделал сам, – ответил Коля.
– Ты обманываешь меня, мальчик, – продолжал доктор. – Так может сделать только ученый мастер.
Коля стыдливо опустил глаза.
– Я никогда не врал… – сказал он. – Я это сделал сам.
– Где же ты учишься? – продолжал доктор.
– Тетя Анна отдала меня к сапожнику, но я не умею шить сапоги, и он часто бьет меня колодкой прямо по голове…
Доктор встал, подошел к детям, подвел их поближе к лампе и долго и пристально смотрел им в глаза.
– Кто был ваш отец? – спросил он наконец.
– Капитан Григорьев, – смело отвечал Коля. – Он командовал шхуной «Чайка», но потерпел крушение и утонул. Теперь мы сироты… Валя живет у тети, а я работаю у сапожника Гуськова в этом же доме, во дворе.
– А где живет ваша тетя?
– На Рыбачьей улице, в доме Панова.
Доктор записал.
– Хорошо, дети, – сказал он, – идите к себе домой. Оставьте у меня ваш кораблик и отправляйтесь с Богом!
Дети подождали несколько времени, думая, что доктор даст им за кораблик денег, но он этого не сделал и, нажав кнопку, позвонил. В кабинет вошла горничная, взяла детей за локти и вывела их в прихожую и затем из прихожей на лестницу. Полные удивления, глотая слезы, они вышли на улицу и в недоумении посмотрели друг на друга.
– Прощай, Коля… – сказала Валя. – Приходи сегодня к нам, если отпустит хозяин!
– Прощай, Валя!
И каждый пошел своей дорогой.
Дул ветер, было морозно, и снег тучами носился по улицам и целыми облаками срывался с крыш.
– У нас будет елка!.. – шептал по дороге Коля и больно кусал себе губы. – У нас будет сегодня елка.
И вместо того чтобы идти к хозяину, он все шел по улице и шел, все время думая о том, как бы устроить елку. Ему не жаль было своего корабля, который так неожиданно оставил у себя доктор. Ему было больно, что его сестра Валя, только что оправившаяся от тяжкой болезни, будет лишена того, что имела каждый сочельник.
Нет, она будет иметь елку! Он докажет, что он уже не маленький, что он сумеет позаботиться о своей сестре и, если нужно, даже положить за нее жизнь.
И полный дум и в то же время тоски по уютной комнате, где тепло и где люди не дерутся колодками по головам, он, незаметно для самого себя, вышел из города.