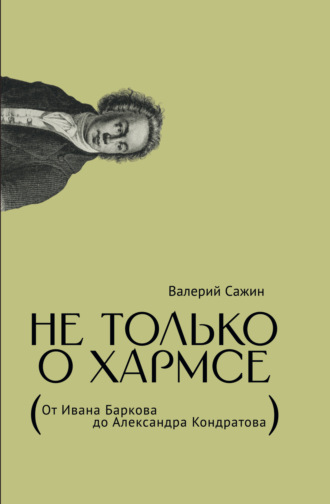
Полная версия
Не только о Хармсе. От Ивана Баркова до Александра Кондратова
Впрочем, репутация Баркова как отрицательного героя русской литературы некоторыми смельчаками уже в конце 1850-х – начале 1860-х годов осторожно корректировалась, и делались попытки собрать и даже переиздать хотя бы напечатанные при жизни его «благопристойные» произведения. Н. Сапов обнаружил и подробно проаннотировал одно из оставшихся, впрочем, неизданным такое собрание сочинений Баркова (составлялось в 1858 году и позднее), с вступительным очерком, в котором анонимный автор писал о «вакханалических» стихотворениях Баркова: «Все эти стихотворения до высшей степени циничны; несмотря на то, однако ж, местами в них видны проблески истинного таланта <…>. Заканчивая наш краткий очерк, так небогатый – сознаемся – подробностями жизни этого замечательного человека, мы считаем должным сказать, что нам кажется совершенно непонятным то предубеждение, какое у нас, в России, существует против вакханалических сочинений Баркова» [48].
Примерно в то же время, в начале 1860-х годов, другой аноним (если не тот же, о котором шла речь выше) объединил в один рукописный том всё, что, по его разумению, принадлежало перу Баркова: «полное собрание эротических, приапических и цинических стихотворений Ивана Семёновича Баркова…» [49] По мнению составителя, Барков «обессмертил себя в потомстве стихами, помещенными в сем сборнике». Отмечая, что «Стихи Баркова, конечно, дышут свободой и разражаются похабщиной», составитель между тем отметил: «…и до Баркова другие литературы содержали уже в себе многое подобное стихам этого поэта, а о прозе и говорить нечего». Среди таких предшественников нашего поэта названы Анакреон, Катулл, Овидий, Петроний, уже упомянутый Бантыш-Каменским Пирон: «В одно время с Барковым жил в Италии тоже знаменитый, а может еще и более, песнопевец интересных сонетов, мадригалов и канцон – Георгий Баффо, который и действительно далеко превзошел Баркова бойкостию стиха, юмором, смелою философией и сатирой над распутством современного ему общества, в особенности католического духовенства» [50].
Этими двумя попытками сочувственного отношения к творчеству и личности Баркова и реализации этого отношения (пусть в виде рукописных сборников) в представлении публике литературного наследия писателя ограничиваются наши сведения о более или менее положительной (или ироничной) интенции по его адресу.
Превалировало иное.
В предисловии к первому посмертному переизданию прижизненных публикаций сочинений Баркова анонимный составитель писал: «Едва ли найдется в истории литературы пример такого полного падения, нравственного и литературного, какое представляет И. С. Барков, один из даровитейших современников Ломоносова». В его произведениях «<…> нет ни художественных, ни философских претензий. Это просто кабацкое сквернословие, сплетенное в стихи: сквернословие для сквернословия. Это хвастовство цинизма своей грязью. Этим наиболее известен Барков» [51]. По мнению автора предисловия, подобные произведения Баркова интересуют только «полуграмотных любителей, заучивающих наизусть все произведения подобного рода, уже потому одному, что оне запрещенные» [52].
Последним в XIX веке высказался о личности и произведениях Баркова филолог и библиограф С. А. Венгеров. В составленном им «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых» (1891) он дал, как сейчас сказали бы, «взвешенную» оценку творчеству писателя: «<…> в 60-х годах прошлого столетия так владели стихом только два-три человека»; «<…> что по стихотворной технике он уступал только Ломоносову и Сумарокову – это несомненно. Главное достоинство Баркова – простота речи, качество, достигшее полного развития, увы, только в непечатных произведениях его» [53]; при этом: «<…> подавляющее большинство из того, что им написано в нецензурном роде, состоит из самого грубого кабацкого сквернословия [54], где вся соль заключается в том, что всякая вещь называется по имени…» [55]
Итог литературной и нравственной репутации Баркова в XIX веке подвел филолог, философ Е. А. Бобров: «Имя Ивана Семеновича Баркова невольно вызывает в историке русской литературы грустное чувство. Один из даровитейших современников Ломоносова, Барков и свое дарование, и отличное знание русского языка (язык его переводов поражает своей чистотою и мало устарел даже в течение полутораста лет) разменял на писание стихотворных мерзостей, циничных до последнего предела, которые самую фамилию Баркова сделали именем нарицательным и неудобно упоминаемым» [56].
С этим клеймом «неудобно упоминаемого» Барков и пришел в следующий век – двадцатый.
Нельзя сказать, что в новом веке эта репутация существенно откорректировалась, но, как ни удивительно, в идеологически строго регламентированное советское время были несколько коротких всплесков – середина 1920-х – середина 1930-х годов; середина 1960-х – середина 1970-х годов [57], – когда серьезный академический интерес к биографии и творчеству Баркова реализовывался без уничижительных эмоционально негативных характеристик писателя. В значительной степени благодаря таким исследованиям и публикациям оказывается возможным реконструировать биографию и творческий путь Баркова.
2Иван Семенович Барков (в делопроизводственных документах, касающихся Баркова, его фамилия иногда писалась: Борков) родился в 1732 году [58], по-видимому, в Сестрорецке, где жил с сестрой и отцом (в документах канцелярии Академии наук отмечены его поездки к родственникам в Сестрорецк) [59]. Он был сыном дьячка [60] и по семейной традиции в 1743 или 1744 году поступил в духовную семинарию при Александро-Невском монастыре в Санкт-Петербурге (Александро-Невскую славяно-греко-латинскую семинарию). В 1744 году в ней учились семьдесят четыре воспитанника и были следующие классы: богословский, философский, реторический, пиитический и грамматический [61]. 24 июля 1747 года при Академии наук был учрежден Университет, и поскольку преподавание в нем должно было вестись на латыни, то в него первоначально было решено набрать тридцать подготовленных в латыни воспитанников из Александро-Невской и Новгородской семинарий и Московской академии. Только весной 1748 года затянувшийся набор студентов наконец завершился зачислением – по разным источникам – двадцати или двадцати трех человек. Первоначально из Александро-Невской семинарии были отобраны для сдачи экзаменов десять семинаристов, но выдержали конкурс только пятеро, а в конце концов зачислены были четверо, и среди них Барков. Причем Барков оказался в Университете не без приключений.
М. В. Ломоносов, закончивший к началу апреля отбор студентов из воспитанников Александро-Невской семинарии, доносил 26 апреля 1748 года в канцелярию Академии наук:
«1. Сего Апреля 24 дня приходил ко мне из Александроневской Семинарии ученик Иван Борков и объявил, что он во время учиненнаго мною и господином профессором Брауном екзамена в семинарии не был и что он весьма желает быть студентом при Академии наук, и для того просил меня, чтобы я его екзаменовал. 2. И по его желанию говорил я с ним по латине и задавал переводить с латинскаго на российский язык, из чего я усмотрел, что он имеет острое понятие и латинский язык столько знает, что он профессорския лекции разуметь может. При екзамене сказан был он от учителей больным [62]. 3. При том объявил он, что учится в школе пиитике, и что он попов сын от роду имеет 16 лет [63], а от вступления в семинарию пятый год, и в стихарь не посвящен [64]. И ежели канцелярия Академии наук заблагорассудит его с протчими семинаристами в Академию потребовать, то я уповаю, что он в науках от других отменить себя может. О сем доносит профессор Михайла Ломоносов.
Подано апреля 28 дня 1748 года» [65].
Об окончательном решении по поводу зачисления всех претендентов узнаём из резолюции Академической канцелярии от 27 мая 1748 года: «Минувшего апреля 7 числа сего 748 году поданным в канцелярию академии наук репортом от профессоров Ломоносова и Броуна объявлено: по указам де Ея И. В., присланным к ним из канцелярии академии наук, выбраны ими из александроневской семинарии учеников студенты в академический университет пять человек, а именно: Андрей Малоземов, Наум Киндерев, Степан Румовской, Иван Лосовиков, Фаддей Томаринский. А того-же апреля 26 числа помянутый же профессор Ломоносов поданным к канцелярию академическую доношением объявил: из помянутой де семинарии, сверх показанных пяти человек, экзаминовал он ученика-ж Ивана Баркова, который де имеет острое понятие и можно де с прочими его из семинарии той требовать. И сего маия 10 числа из оной семинарии по требованию вышеобъявленные ученики, шесть человек, в академию присланы и в собрании екзаминованы, из которых удобнейшими для академии оказались только четыре человека, а именно: Степан Румовской, Иван Лосовиков, Фаддей Томаринской и вышеписанный Иван Барков, кои при академии и оставлены, а Андрей Малоземов и Наум Киндерев отпущены попрежнему в реченную семинарию. Того ради определено: показанных четырех человек написать в академический список и обучаться им некоторое время в гимназии, ибо оные от профессоров принимать лекции не гораздо еще в хорошем состоянии, о чем гимназии господину ректору и профессору Фишеру послать ордер. А жалованья им производить по три рубли по пятидесяти копеек на месяц, из положенной суммы на академических учеников, которое начать сего маия от десятого числа и производить оное по прошествии каждаго месяца, записывая в расход с росписками, о чем к расходу послать указ» [66].
Студенты были размещены в общежитии в доме баронов Строгановых близ стрелки Васильевского острова, тут же были лекционные аудитории [67]. Каждому полагалась казенная одежда: зеленый кафтан, шляпа, шпага с портупеей; помимо того, выдавались камзол, двое штанов, сапоги, башмаки, чулки [68]. О замене быстро ветшавшей на молодых плечах одежды начальство не позаботилось, поэтому через год студенты подали прошение: «<…> данный нам мундир весьма обветшал и изорвался»; «<…> что отчасу дале в большую бедность и оскудение приходим в вышеобъявленном мундире, так, что и рубашки на плечах ни у кого не остается» [69]. Прошение осталось без ответа.
Для университетских студентов была педантично разработана иерархия наказаний – всего десять разрядов (эта многоуровневая система лучше всего характеризует их повседневное поведение): 1) за ослушание начальства подавался рапорт в канцелярию, которая решала дальнейшую судьбу нарушителя, а до тех пор он находился под караулом; 2) за непослушание ректору студент помещался на две недели в карцер на хлеб и воду; адъюнкту – на одну неделю; 3) за ослушание профессоров – неделя карцера; учителей – три дня; 4) за обиду товарища словом – один день карцера; за обиду рукой (то есть драку) – рапорт в канцелярию; 5) за пьянство: за первый раз – неделя карцера; за второй – две недели; за третий – рапорт в канцелярию; 6) за выход из общежития без разрешения ректора или адъюнкта: за первый раз – карцер (срок на усмотрение ректора); за второй – вдвое дольше; за третий – рапорт в канцелярию; 7) если студент не ночевал в общежитии: за первый раз – неделя карцера; за второй – две недели; за третий – рапорт в канцелярию; 8) за пропуск лекций: на первый раз – серый кафтан на неделю; на второй – то же самое на две недели; на третий – на три недели и т. д.; 9) за невыученный урок: на первый раз – серый кафтан на день; на второй – на два дня; на третий – на три дня и т. д.; 10) за кражу – рапорт в канцелярию, а до назначения канцелярией наказания – под караул [70]. Разумеется, это не отвращало студентов от разнообразных проказ, и они, как сказано в одном из донесений в академическую канцелярию, «по ночам гуляют и пьянствуют, и в подозрительные дома ходят, и оттого опасные болезни получают» [71]; дошло до того, что для усмирения двадцати студентов в апреле 1749 года были запрошены шесть-восемь солдат [72].
Занятия в Университете начались 16 мая [73]. В конце года успехи Баркова в разных изучавшихся им науках были следующими: «2. Господин профессор Рихман в математических своих лекциях имел слушателями всех на жаловании содержащихся и вольных студентов. <…> Худо при нем учились: Терентьев, Барков, Лосовиков, Яремский и Фрязин, которым, по его, господина профессора мнению, надлежит еще в практике арифметической гораздо быть обученными, пока до прочих математических наук допущены будут. 3. Господин профессор Тредьяковский объявил, что к нему в лекции ходили следующие студенты, которых он по их прилежности и понятию, что до латинского штиля и до элоквенции надлежит, разделил на три класса… <Барков здесь оказался в среднем классе. – В. С.>. 4. Господин профессор Крузиус при своих лекциях, которыя до толкования древних латинских авторов касаются, лучших почитает из студентов Котельникова, Яремского, Софронова, Барсова, Боркова… 5. Господин профессор Фишер толкует, по его объявлению, историю ветхаго завета, содержащую восмь частей, из которых он две первыя к концу привел, а потом историю новаго завета начнет. К нему в лекции ходят все новоприсланные студенты <…>; следующие либо негодны к историческим наукам, либо рано к оным допущены, а именно: Фрязин, Борков, Лосовиков, Клементьев и Козляницкий» [74].
По первым нескольким месяцам учебы еще, разумеется, преждевременно было судить о перспективах того или иного ученика, но нельзя не заметить, что Барков более всего преуспел именно в том, за что недавно отметил будущего студента экзаменовавший его Ломоносов: в «латинском штиле и элоквенции» (то есть красноречии) и толковании древних латинских авторов – латынь была коньком Баркова. Из донесения профессора Ф. Мюллера, поданного еще через год, 6 октября 1749 года, известно, что Барков (вместе с несколькими другими студентами) желал усовершенствоваться именно в этой области: «В прошлом 748 году апреля 26 и августа 2-го дня писано от меня в поданных академической канцелярии доношениях, между протчим, о недостатках некоторых университетских студентов в латинском языке и в других школьных науках; о том же и в аттестатах господ профессоров, после первого университетского экзамена в канцелярию от меня поданных, упомянуто. Ныне же некоторые из оных студентов, а именно: Иван Елисеев, Иван Борков, Иван Лосовиков, Фадей Охтенский, Федор Соколов, Адриан Дубровский, Василий Клементьев, Степан Румовский, Борис Волков, Игнатей Терентьев, меня просили, дабы иметь старание об обучении их вышеписанным наукам. – Того ради за потребно я разсудил прежния мои предложения повторить, в которых я представил, что необходимо нужно при гимназии учредить верхний класс, ректорский, в котором такие студенты вместе с учениками в гимназии обучены быть должны. А пока сие не сделается, чтоб кого назначить из профессоров, который бы грамматическия и риторическия правила им толковал и задавал компоновать им разныя до штиля и до оратории касающияся экзерциции и оныя экзерциции поправлял бы с обстоятельным изъяснением, понеже без такого основания все труды их в вышних науках будут втуне и академии в предосуждение» [75]. Ректор Фишер не откликнулся на просьбу учащихся, но Барков, вероятно, и без того успешно совершенствовался в латинском языке – тот же Ф. Мюллер, докладывая 12 февраля 1750 года о состоявшемся незадолго до того студенческом экзамене, о Баркове сообщил следующее: «…25. Иван Борков – несколько показал успеху в арифметике, а в других математических науках не столько; также и философии не много учился. Он объявляет, что от большей части трудился в чтении латинских авторов и между оными Саллюстия, которого перевел по русски войну Катилионову; понятия не худова, но долго лежал болен и кажется, что острота его от оной болезни еще нечто претерпевает» [76]. Это был первый самостоятельный переводческий труд Баркова, свидетельствовавший о сформировавшемся у него серьезном интересе к латинской истории и намерении заниматься переводческим трудом [77]. Что до упомянутой болезни, то предполагается, что она была связана с переживаниями Баркова по поводу смерти отца [78].
В те же дни, 17 февраля 1750 года, были подведены итоги и «нравам и понятиям студентов» – инспектор И. Фишер докладывал в канцелярию Академии наук: «23. Иван Борков – средних обычаев, но больше склонен к худым делам» [79]. Чтобы по достоинству оценить эту лаконичную характеристику, полезно сравнить ее с данным в том же документе пространными характеристиками других студентов: Павел Введенский «не глуп, но пьяница, и за пьянство сидел несколько раз в карцере»; Левонтей Соловьев «человек грубый и не очень умен. Иногда ночью со двора без спросу сходит и по нечестным домам волочится. Некогда не устыдился привесть к себе на квартиру нечестных женщин и о сем я известившись, приказал согнать женщин со двора. На сие он осердившись, меня ругал и убить грозил»; Назар Герасимов «человек тупой, глупый, гордый и наушник, иногда и пьянствует, а в пьянстве никому не спускает, как товарищей, так и командиров бранит и ругает»; Григорий Павинский «с лица можно почесть его за добронравнаго человека, но ошибаются которые знаки на лице почитают за довольные к познанию человека. В пьянство так сильно вдался, что трудно его от того отвратить. Весьма опасно попасться ему в руки пьяному и бешеному; хватается иногда за нож или за другое, что в сердце ему не попадется, чем всякаго, кто ни попадется, хотя не убъет, но устрашает»; Егор Павинский «меньшой брат прежняго, но злыми делами его превосходит. Он в пьянстве не разсуждает о честности, славе, благодеянии, пристойности, а напившись, как человек не смирный и суровый, дерзостно и нагло поступает. Он человек упрямаго нраву и не усмиряется науками, к которым склонности не имеет. Оба за пьянство и за наглость сидели несколько раз в карцере, для исправления, но напрасно»; Иосиф Полидорский «неразлучный товарищ Егора Павинскова и участник злых его дел, за что канцелярия сажала его в карцер не однажды» [80]. Очевидно, что, по крайней мере в приведенном контексте, Барков характеризуется почти невинно. Ниже последует еще немало сведений о провинностях Баркова и о наказаниях за них; важно только принимать во внимание, – для того здесь и приведен обширный контекст характеристик сотоварищей Баркова по Университету, – что его «чудачества» или «буйства» не были исключительным свойством его личности: таковы были обыкновенные нравы университетского студенчества.
Список прегрешений Баркова не замедлит последовать.
Из протокола канцелярии Академии наук от 23 марта 1751 года явствует: «Его высокографское сиятельство Академии наук г-н президент, слушав поданного в канцелярию Академии Наук от профессора и университета ректора г-на Крашенинникова репорта, которым представлено: сего месяца 10 числа видел он некоторых студентов во время службы Божией шатающихся по улицам, которые из университета в церковь отпущены были, за то приказал он посадить их в карцер, и из того числа Иван Барков ушел из университета без позволения, пришел к нему, Крашенинникову, в дом, с крайнею наглостию и невежеством, учинил ему прегрубые и предосадные выговоры с угрозами, будто он его напрасно штрафует, а наконец, сказав, что он рад сидеть в карцере, токмо он писать на него будет, и хлопнув дверью так, что она отворилась настежь, ушел; и тою наглостию не удовольствовавшись, бегал он по некоторым из г-д профессоров, и клеветал на него, г-на профессора, и на своих товарищей. И ежели сей поступок отпущен ему будет без штрафа, то другим подастся повод к бóльшим наглостям, а карцер и серый кафтан, чем они штрафуются, ни мало их от того не удерживает. И в рассуждении онаго представления, что оные студенты от такого штрафа сажанием в карцер и надеванием серого кафтана ни мало от худых поступок воздерживаются, изволил приказать: показаннаго студента Баркова за такую учиненную им продерзость, в страх другим, при собрании всех студентов, высечь розгами; да и впредь, ежели кто из оных студентов явится в таких же худых поступках, оных по тому же наказывать розгами, кто бы какого возраста не был. О наказании же помянутаго студента Баркова к вышеписанному г-ну профессору Крашенинникову послать ордер, в котором написать, чтоб он впредь о являющихся в продерзостях, достойных таковому наказанию, студентах представлял канцелярии, отколе о учинении того наказания посылать ордеры, а без ведома канцелярии никого тем штрафом не наказывать» [81]. Это был, как видно, психологически тяжелый период в жизни Баркова: провинность следовала за провинностью. 1 апреля «…отлучившись из Академии, он возвратился в нетрезвом виде и произвел такой шум, что для усмирения его товарищи принуждены были позвать состоявшего в Академии для охранения порядка прапорщика Галла. Барков, сопротивляясь ему, „сказал за собою слово и дело“, почему взят был „под караул“ и отправлен в Тайную Канцелярию розыскных дел. 15 апреля он был возвращен оттуда и снова принят в академический университет с таким объявлением, что хотя он Барков за то подлежал жестокому наказанию, но в рассуждении его молодых лет и в чаянии, что те свои худые поступки он добрыми в науках успехами заслуживать будет, от того наказания освобожден; а ежели впредь он Барков явится в пьянстве или в худых каких поступках, тогда жестоко наказан и отослан будет в матросскую службу вечно» [82].
Из этого документа, как и последующих, очевидно, что Баркова, несмотря на его проступки, ценили как подающего надежды талантливого студента: как здесь, так и впредь его будут журить или даже наказывать, но в конце концов всегда предоставлять возможность тех или иных (весьма ответственных) занятий при Академии наук.
Так случилось и «буйной» для Баркова весной 1751 года. Не вняв предыдущему предупреждению, он снова провинился и 25 мая исключен из числа студентов и состоял в типографии учеником наборного дела, с содержанием по два рубля в месяц; но канцелярия, «усмотря его молодые лета и ожидая, не будет ли от него впредь какого плода, назначила ему обучаться российскому штилю у проф. Крашенинникова, и языкам французскому и немецкому, и только по окончании учебных часов приходить в типографию, при чем корректору Барсову поручено было наблюдать, чтобы он не впал в прежние непорядки, и доносить о его занятиях и поведении ежемесячно» [83]. Таким образом, Баркова попросту освободили от занятий теми предметами, которых он не любил и в которых не успевал, предоставив возможность заниматься любимым делом – изучением языков, да еще, сверх того, осваивать процесс подготовки книг к изданию.
В июле 1751 года корректор типографии А. С. Барсов, которому было поручено руководить Барковым и сообщать о его поведении, доносил, что «<…> оный Барков находится в трезвом уме и состоянии и о прежних своих продерзостях сильно сожалеет и поступает тихо, смирно и кротко и притом послушен и к делу прилежен» [84]. Надо полагать, обилие положительных эпитетов в донесении Барсова о поведении Баркова соответствовало его истинному образу жизни в это время, а не было лишь товарищеской выручкой.
Осенью академическая канцелярия подтвердила дозволение Баркову продолжить изучение французского и немецкого языков и «российского штиля», мотивируя всё теми же молодыми его летами «и не может ли быть от него впредь какого плода» [85], и для этих занятий ему были выданы грамматики – немецкая и французская [86]. По-видимому, он делал успехи и на службе в типографии: 29 мая 1752 года его назначили уже помощником корректора Барсова (вероятно, помимо благонравного поведения, были отмечены и его успехи по части освоения «российского штиля»).
Между тем 10 ноября 1752 года Барков был «за пьянство и ссору в ночное время вместе с двумя академическими мастеровыми <гравировальными учениками. – В. С.> наказан розгами» [87], но продолжал работать помощником корректора.
Положение Баркова изменилось весной следующего года.
2 марта 1753 года он направил в канцелярию Академии наук следующее прошение: «<…> 1. Прошлого, 1752 года, Маия 29 числа определен я нижайший к находящемуся в типографии корректору Алексею Барсову для вспоможения ему в поправлении корректур и для записи у него бумаги и прочих материалов, понеже за множеством положенных на него Барсова дел, а имянно, что надлежит до приходу и расходу бумаги и прочих материалов, такожде и для посторонних его случающихся дел, как то переводу ведомостей и иных, без вспоможения оному одному исправиться было трудно. 2. А минувшаго февраля м<еся>ца 5 числа сего 1753 года по резолюции Канцелярии Академии Наук помянутый корректор Алексей Барсов от должности, касающейся до приходу и расходу бумаги и прочих материалов, уволен, и оная препоручена определенным для тех дел особым людям г<оспо>д<и>ну инспектору Томилину и наборщику Ивану Ильину, и следовательно он ныне оставлен токмо при исправлении корректорской должности и над типографскими служительми смотрение имеет, что он без труда и без помощи моей исправлять может. 3. И тако я нижайший в типографии впредь имею находиться праздно, ибо как объявлено мною, для помянутых обстоятельств и умаления дел лехко может и без помощи моей оной корректор Барсов справляться. 4. А желаю я нижайший принять на себя должность бывшего при асессоре и унтер библиотекаре г<оспо>д<и>не Тауберте канцеляриста Ульяна Калмыкова, которую я свободно отправлять могу, хотя от типографии освобожден и не буду. 5. А понеже в убогом моем нынешнем состоянии определенным мне жалованьем, которого годовой оклад состоит токмо в тритцати шести рублях [88], содержать себя никоим образом почти не можно, ибо как пищею и платьем, так и квартиры нанять чем не имею.

