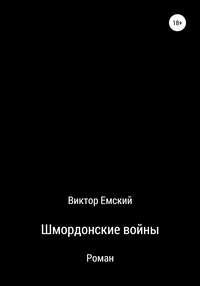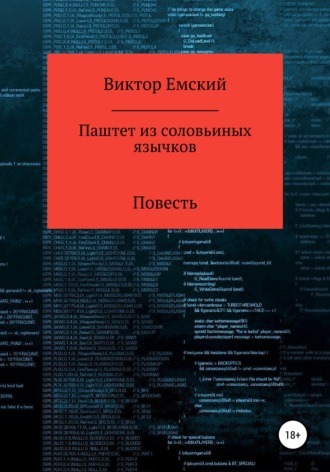 полная версия
полная версияПаштет из соловьиных язычков
– Пусть валяется. Похудеет – ему же легче будет обряды справлять. А то разъелся на службе своему богу…
Марк вернулся к действительности. Никаких титров в небе уже не было и, похоже, Публий их вообще не заметил. Видимо, они существовали только в голове его отца.
– Так и получается, – сказал Публий, – что раз нам всем в первый раз отчикали головы, то теперь этот порядок будет продолжаться вечно.
– А как же быть с твоим старшим братом? – спросил Красс. – Он говорит, что в бою не погибал, а умер в мирное время.
– Знаешь, отчего он умер в первый раз? – рассмеялся Публий. – Будучи наместником Цизальпинской Галлии, он проводил инспекцию склада, в котором было сложено трофейное галльское оружие. Одна из полок не выдержала и рухнула под грузом железа на Марка-младшего. Длинный галльский меч оттяпал голову моему старшему братцу в одну секунду. Это случилось через несколько лет после нашей с тобой гибели. Так что наследственность и в этом случае сработала.
– И все из-за меня! – Красс-старший печально смотрел на сына. – Боги наказывают за жадность.
– Возможно, – согласился с ним Публий. – Но все-таки мне кажется, во всем этом балагане с постоянной рубкой голов что-то не так. Вещи, которыми ты занимался в свое время, в современном мире совершенно естественны. И называются бизнесом. Кстати – в древности они были естественны не меньше. И если кто-то богат более других, значит он просто умнее и предприимчивей. За что же тогда его наказывать? Даже ростовщичество – абсолютно обыденное дело. Вон, сейчас все банки этим занимаются. Но, насколько я помню, ты, отец, не ссужал деньгами под проценты друзей и знакомых…
– Да, – кивнул головой Красс-старший. – Я никогда не брал проценты с друзей.
– Зато ты впоследствии забирал у них большую часть имущества, – раздался вдруг голос с края площадки.
Марк с Публием повернули головы и увидели рослого красивого человека, появившегося на кромке обрыва. Это был старший сын Красса, которого звали Марком-младшим. Если Марк-старший и Публий были похожи как отец и сын, то черты Марка-младшего ничего общего с чертами рода Лициниев не имели. В груди Марка-старшего зашевелилась обычная в таких случаях ревность, но здравый рассудок привычно отмел необоснованные подозрения и объяснил непохожесть Марка-младшего наследственными признаками, полученными от матери Тертуллы, с которой Красс-старший прожил в согласии тридцать семь лет.
– Здравствуй, сынок! – приветливо воскликнул отец.
– Привет, папа, – откликнулся Марк-младший, подходя ближе. – Здравствуй, братец.
– Салют! – не вставая с колоды, помахал рукой Публий. – Ну и как ты умер в этот раз?
– Как обычно, – пренебрежительно взмахнул рукой Марк-младший, останавливаясь напротив отца. – Я был владельцем крупной фирмы по производству локомотивов для железных дорог. На одном из своих заводов я решил провести инспекцию и зашел с этой целью в склад, где хранились тяжелые колесные пары. Представьте себе – один из штабелей вдруг развалился, и колесные пары покатились! Я оказался на пути этого смертоносного потока. Меня смяло в мгновение! Множество колесных пар прокатилось по моему бренному телу, ломая все кости, а одна из них аккуратно чикнула по шее, отделив голову от туловища. Обычная смерть. Для меня. За один раз до этого случая моя голова была оттяпана бронированным листом железа на одной из корабельных верфей, принадлежавших опять-таки мне. И случилось это во время очередной инспекции складов. Прямо рок какой-то!
– А что такое железная дорога? – поинтересовался Красс-старший. – Зачем дорогу делать железной? Вам что, металл девать некуда?
– А-а-а, не парься! – воскликнули сыновья хором.
– Так вот, по поводу займов, – продолжил Марк-младший, внимательно разглядывая секиру, зажатую в руке отца. – Ты действительно никогда не ссужал деньгами друзей под проценты. Но всегда предлагал им хорошенько подумать, и происходило это следующим образом: «Тебе нужно пять тысяч сестерциев на три месяца? Пожалуйста! Но ты прежде подумай. Почему пять? Могу дать пятьдесят. Могу и сто. Ах, хватит и пяти? Ну, хорошо, но почему на три месяца? Может, на год? Или на два года? Подумай. Ведь я тебя не тороплю. Вдруг отдать не сможешь. У тебя вилла в Лукании? Урожай будет хорош. Ты его продашь и расплатишься? А если дождь зальет поля? Ах, у тебя есть еще вилла в Испании? Ну, тогда смотри сам. Но еще раз подумай. Главное – отдать деньги в срок, указанный тобой. Пиши расписку. Написал? Вот и ладненько». А через три месяца происходил следующий разговор: «Не можешь отдать долг завтра? Засуха уничтожила урожай в Лукании, а виллу в Испании спалили восставшие рабы? Ой-ой-ой, как печально! Сочувствую твоему горю. Но я же предлагал тебе подумать! Можно было отдать долг через два года. Ты не захотел. Что ж, придется обратиться в суд. Не подумай, что я на тебя обиделся. Нет-нет, ничего личного. Но деньги есть деньги. Прощай». И здесь вступают в действие подкупленные эдилы, и даже сенат. Обе виллы отбираются и продаются за бесценок, долг погашается, а бывший владелец недвижимости остается без штанов. А кто, спрашивается, покупает эти виллы? Конечно же, наш дорогой отец! Через подставных публиканов. Вот тебе и займы без процентов!
– Не вижу в этой схеме никакой подлости, – сказал Красс-старший. – Я ведь всегда предлагал подумать и никого не ограничивал во времени. А дураки на то и дураки, чтобы приносить выгоду умным людям. Многие меня обвиняли в жадности. Вранье! Я не был жаден. Вспомните, когда я находился в Риме, каждый вечер у нас устраивались встречи с философами, артистами, умными греками, прибывшими с новыми идеями в Вечный Город. У меня всегда был накрыт стол для таких людей. Да, мои гости не ели паштет из соловьиных язычков и не блевали, наполнив доверху желудок, чтобы после этого сожрать еще одну порцию деликатесов, как это происходило у Лукулла! Но никто не голодал. И вина было вдоволь, вот только много его не пили, потому что было некогда. Все присутствующие собирались у меня для того, чтобы наполнить вечер новыми мыслями, чтобы поспорить о существующем порядке вещей и об искусстве. А, согласитесь, таким людям вино не нужно! Вы должны это помнить! Я не запрещал вам присутствовать на этих ужинах. Вы же были мальчиками, внимавшими устам ученых людей, и потому стали такими умными. А ты, Публий, вообще учился у Цицерона ораторскому искусству! А он был мне врагом. Еще каким вражиной! Но я не препятствовал тебе, понимая, что этот словоблуд действительно гениален! А сколько денег я ему заплатил за твое обучение, знаешь?
– Не трогай память Цицерона! – воскликнул Публий.
– Нет-нет, сынок, – тут же ответил Красс, перекладывая секиру из одной руки в другую. – Это я так, к слову…
Он замер, закрыв глаза, и хоровод воспоминаний вновь ворвался в его голову, а в небе засверкала новая огненная вывеска:
КРАСС И ЦИЦЕРОН
Миниатюра
Марк увидел себя в Сенате. Он слушал, как Цицерон, произнося речь по какому-то поводу, ругал Красса, на чем свет стоит, порицая его во всех совершенных им поступках. Ему вспомнилась речь, произнесенная Цицероном не далее как вчера. Так вот вчера Цицерон разливался соловьем, хваля Красса за все его прежние деяния.
Удивившись такой странности в поведении Цицерона, Красс после окончания заседания остановил последнего на выходе из здания и сказал ему:
– Что-то не пойму я твоей логики. Сегодня ты меня ругал. А вчера превозносил как майскую розу, подаренную весталке. И все за одни и те же поступки.
На что Цицерон спокойно ответил:
– Вчера я просто-напросто упражнялся в искусстве говорить о низких предметах.
Красс вынужден был умыться и отстать от оратора. Но через некоторое время он опять получил сполна. Как-то раз в частной беседе на портике Марк заявил перед собравшимися, что никто из его рода не прожил более шестидесяти лет.
Цицерон присутствовал при этом разговоре и через несколько месяцев не преминул напомнить о нем Крассу, намекая, что шестидесятилетие уже подкрадывается к нему, и в связи с этим Марку пора собираться в гости к Плутону, чему весь Сенат будет несказанно рад.
– Я такого не говорил, – принялся отпираться Красс. – С какой стати я бы это сказал?
Цицерон со злорадством в голосе ответил:
– Ты знал, что римляне будут рады такой вести и потому хотел им угодить!
Ну как можно было не считать врагом такого противного человека?! Но младший сын Публий души в Цицероне не чаял!
Нобилитет и всадничество вступали во взрослую жизнь подготовленными. Каждый юный римлянин, начинающий строить свою карьеру, уже многое умел. Любой подросток из знатной семьи имел понятие о составе легиона и принципах его действия. Молодые люди знали азы юриспруденции и могли занимать достаточно важные посты в магистратурах. Ну а об ораторском искусстве и говорить не приходилось!
Этому обучались с детства. Нанимались репетиторы и логопеды. Каждый знатный римлянин умел трепать языком. Но бывали ораторы, способные в искусстве словоблудия превзойти любого подготовленного системой нобиля по всем параметрам языкового мастерства. И главным из них был Цицерон.
Патриций? Нет, плебей. Но – мастер! У него брали уроки многие, и стоило это недешево. Старший Красс учился, естественно, не у него. Его учили греки, и учили неплохо. Марк Красс был хорошим оратором, и Цицерон никогда этого не отрицал.
Старший сын Красса – Марк-младший – тоже не учился у Цицерона, но когда выступил в Сенате со своей первой речью, получил от Цицерона следующую оценку:
– Достойно Красса!
Это была высшая похвала. Но не только Марку-младшему, но и Марку-старшему, хорошо владевшему словом.
А вот Публий, младший сын, стал любимцем Цицерона. Оказалось – Публий обладает яркой, полной романтики душой, и от этого обладания речь оратора только выигрывает, наливаясь мощью и красотой.
Публий стал Цицерону учеником, другом, поклонником таланта, но Красса это совсем не обрадовало. Надо же, занимаешься черт знает сколько лет уничтожением своего врага, а здесь влезает любимый сын и говорит: «Не тронь его, папа, он гений!» И что с того? Если он гений, можно всю семью хлеба лишать, втыкая палки в колеса крассовой колеснице? Ах, колесница катится так, что никакие палки ей нипочем?
А зачем вообще нужны палки? Лучше б их не было. Но они есть, и колесница все равно катится. Отойди, сынок! Ой, нет! Тебя-то она, конечно, не раздавит, но больно сделает!
Так оно и вышло. Сначала Публию было больно, когда Цицерона отправили в изгнание. А виноват в этом был Клодий. Ничтожество! Популяр! Мерзавец! А папа? А папа, естественно, официально ни при чем… Ну, а потом Цицерон вернулся, но ненадолго. Марк-младший рассказывал, что Цицерон пережил Красса-старшего на десять лет и окончил свои дни печально.
Красс представил себе мертвого врага. Отрезанная мечом голова Цицерона смотрела на Марка-старшего мутными стеклянными глазами. Изо рта торчал утыканный железными дамскими булавками неправдоподобно опухший язык. «Дочирикался! – довольно подумал Красс. – Соловей из сенатской рощи. Вот паштет из этого языка я бы съел с удовольствием!»
– Да-да, согласен с тобой, – нетерпеливо сказал Марк-младший, продолжая внимательно рассматривать секиру. – Слушай, отец, как ты думаешь, долго ли будет продолжаться эта история с рубкой голов? Каждый раз после смерти мы с братом оказываемся здесь, становимся на колени, и ты отрубаешь нам головы. Зачем? Чтобы ты мучился духовно? Ну, хорошо. Тебя наказали за жажду наживы, и это твой личный ад. Но мы-то здесь при чем? Ну-ка, дай мне подержать твое орудие.
Он протянул вперед руку и взялся за древко секиры чуть выше пальцев Красса-старшего.
Отец отпустил руку и сказал:
– Пожалуйста.
Марк-младший взял секиру в руки и взмахнул ей, пробуя баланс оружия. В воздухе раздался свист. Публий, насторожившись, поднялся на ноги.
– Мне кажется, пора изменить существующий в данной местности порядок вещей, – сказал Марк-младший, отводя секиру назад. – В жизни всегда надо что-то менять, иначе она превратится в воняющий застарелым потом махровый халат.
Странные птицы, кружившие вверху на фоне уходящего за горизонт солнца, вдруг участили движения крыльями и увеличили скорость своего полета. Публий инстинктивно напрягся. И лишь Красс-старший, ничего не понимая, спокойно смотрел на секиру в руках Марка-младшего, отведенную назад для удара.
– Нет! – вдруг крикнул Публий.
– Да! – твердо сказал Марк-младший, приводя секиру в движение.
Блестящий в лучах солнца полукруг лезвия описал в воздухе дугу и с громким хрустом вонзился в лоб Крассу-старшему. Отец двух братьев, не издав ни звука, ни стона, рухнул навзничь.
Публий, подбежав, понял, что ничего сделать уже не сможет, потому что все уже и так сделано. На каменистой площадке рядом с колодой лежал труп, из головы которого торчала застрявшая в черепе секира, а вокруг растекалась алая кровавая лужа.
– Что ты натворил?! – вскричал Публий, с ненавистью посмотрев на брата.
– Успокойся, – ответил Марк-младший.
Он сделал шаг вперед и твердой рукой вырвал секиру из головы убитого им отца.
Протянув обагренное кровью оружие Публию, он сказал:
– А теперь меня. Не имеет значения как. Хочешь, я встану на колени и положу голову на плаху?
– Подожди! – крикнул Публий, с ужасом глядя на лезвие секиры.
Его рука инстинктивно схватила древко, протянутое ему Марком. Но разум пока не мог смириться с тем, что произошло.
– Я ничего не понимаю! – воскликнул он.
– Конечно, – сказал Марк-младший. – Ты же наполовину рубака-воин, а на вторую половину – романтик, нюхатель ромашек. Где ж тебе понимать. Даже твое ораторское искусство, которому ты учился у самого Цицерона, способно работать только в двух направлениях: вперед, соратники, мы победим, и засыплем цветами наших дам! А немножко подумать шире – это не к тебе.
– Ты несносен! – крикнул Публий, кипя злобой.
– Да, – подтвердил его вывод Марк. – Поэтому возьми, да убей меня. Так мне и надо. Ну, чего же ты медлишь?
– Тут что-то не так, – сказал Публий.
Он бросил секиру, уселся на колоду и задумался. Марк, ругнувшись себе под нос, последовал его примеру. Он сел рядом с Публием и, расположившись вполоборота к брату, принялся молча смотреть на него. Это продолжалось несколько минут.
Наконец Публий спросил:
– Что ты на меня так смотришь?
– Жду, когда ты поумнеешь, – ответил Марк-младший.
– Дождался? – поинтересовался Публий.
– Не знаю, – сказал Марк.
– Рассказывай, – потребовал Публий, стараясь не смотреть на труп своего отца, лежавший поодаль от них.
– Весь этот бред придуман не нами, – начал Марк. – То, чему нас учили, те сказки, которые рассказывали нам, оказались ложью. Мы с тобой живем и живем. И никаких Плутонов в глаза не видели, равно как Аидов, Анубисов, Будд, Иегов и прочих таких же сказочных распорядителей. Самое интересное: мы рождаемся и умираем через отсечение головы, а потом появляемся здесь, на этой чертовой горе и лишь тогда понимаем, кто мы такие и зачем здесь присутствуем. В тех жизнях, которые мы проживаем внизу, нам не дано знать о прежних воплощениях. И только с появлением здесь мы обретаем тысячелетнюю память и умещаем в нее все наши прошлые приключения. Так?
– Выходит так, – согласился Публий, опустив голову.
– И что из этого следует? – продолжил Марк. – А черт его знает, что из этого следует! Вариантов – куча! Итак, начнем. За все свои жизни, прожитые после первой смерти, кем только я не успел побывать! Национальностей не перечесть. А религии? То же самое. Я был язычником, христианином, мусульманином, буддистом, синтоистом и, даже страшно подумать – атеистом! И я уверен – ты тоже перепробовал все.
– Угу, – согласился с ним Публий. – Атеистом даже три раза. По большому счету – все военные в душе немного атеисты.
– Вот-вот, – кивнул головой Марк. – И мы после смерти всегда оказывались здесь. Чистенькие такие, умытые и все помним. Добренький наш папочка, источая слезу из оловянных от какого-то одурения глаз, расспрашивал нас о последней жизни, потом ставил раком перед колодой и оттяпывал нам головы секирой. И мы снова рождались где-нибудь. Ты, например, в Аравии, а я в Канаде. Потом росли, жили – не тужили, затем смерть, и опять мы здесь! И во все этом разнообразии существует только один постоянный фактор – наш папочка с секирой. А где рай и ад? Где, наконец, нирвана?! Кстати, в одной из своих жизней (как раз тогда, когда я был буддистом-хинаянщиком) мне удалось достичь нирваны. Вышел я в эту гребаную нирвану, ощутил полный покой, обрадовался было, и оказался где, как ты думаешь? Здесь!
Марк обвел рукой площадку.
– Меня тоже все это преследует, – согласился Публий. – Но мне казалось, что это наказание за наши грехи.
– Стоять! – рявкнул Марк. – Вот оно, понятие – грехи! Да, каждый человек грешен. В любой религии человек грешен. Ибо если человек сможет соблюдать все заповеди священников, станет не человеком, а ботвой. И только тогда эта ботва приблизится к богу, ибо станет похожей на него? Чушь собачья! Ни один из богов ботвой никогда не был, потому что бог всегда силен и создает людей по каким-то образам и подобиям. А ботва? Какой бог похож на ботву? Ответ и так ясен.
– И что следует из этого? – спросил Публий.
– Черт знает, что из этого следует, – вздохнул Марк. – Но мне почему-то кажется, что гвоздем, удерживающим на месте этот порядок вещей, является наш отец. Мы с тобой никогда не пересекались в прошлых жизнях. А здесь – пожалуйста. Появляемся в один час. И умираем в один час. И там и здесь. Может, наказание придумано ему? А мы тогда при чем?
– Если ты был христианином, мусульманином или иудаистом, должен помнить, – сказал Публий. – Наказание за грехи распространяется на потомков. Там даже степени есть. До седьмого колена, до двенадцатого потомка…
– Я это помню, – холодно сообщил Марк. – Но совершенно с этим не согласен. Поэтому и дал ему по черепу секирой. Может, этот шаг освободит его от круга, в котором он находится? А заодно и нас. Кстати, я неточно выразился. Это мы находимся в круге. А он завис в прямолинейном пространстве.
– Но это же грех! – вскричал Публий. – Убийство, тем более отца! Нам добавят!
– Не пори чушь! – воскликнул Марк. – Какой грех? Мы находимся сейчас где? Нигде. А про грех в нигде – нигде не сказано. Потому греши – сколько хочешь и как хочешь. А кто будет добавлять? А за что? И вообще, ты хоть раз думал, как он здесь живет?
– Нет, – признался Публий с удивлением.
– Мы с тобой проживаем свои жизни. Любим, ненавидим, стремимся, постигаем, короче – живем! А он здесь все время один, не перерождаясь, постоянно со своими мыслями об одной, всего лишь одной прожитой им жизни! А где он живет? А как он живет? И что он, наконец, ест?
– Да уж! – вскочил с колоды Публий. – Никогда об этом не думал.
– А я думал каждый раз, когда появлялся здесь, – сказал Марк, тоже поднимаясь на ноги. – И хотя времени было всегда мало, я заметил, что мысли быстро укладывались в пучок. И потому я решил провести небольшой эксперимент. Я убил отца. Если он являлся стержнем этого порядка – все должно развалиться. Теперь нам осталось убить самих себя. И, возможно, мы никогда сюда не вернемся больше. А наш отец обретет новую жизнь! А может и нет… И вот еще вопрос: обретем ли теперь новую жизнь мы?
– В голове не умещается, – задумчиво сказал Публий, ковыряя армейским ботинком каменную площадку, на которой они стояли.
– Понятное дело, – согласился с ним Марк. – Это тебе не учебные стрельбы в присутствии полковых медсестер из санитарной части. Пойдем, посмотрим, как наш папаша жил здесь.
– Пошли, – решился Публий.
Они направились к отверстию, черневшему в скале. Солнце уже почти закатилось за горизонт, но сумерки еще только начинались, и света было пока достаточно, что позволило братьям осмотреть место существования их отца.
Пещера была небольшой и круглой. Слева от входа находились нары из мореного дуба, на которых валялся пук каких-то вонючих старых шкур. Справа от нар раскорячился каменный стол, стоявший на трех базальтовых ногах. Больше в пещере не было ничего. Ни стульев, ни шкафов, ни ложки, ни вилки, ни даже самого завалящего ночного горшка.
– На тебе! – покачал головой Публий. – Как же он тут живет?
– Жил, – поправил его Марк.
– Да, жил, – согласился Публий. – Даже очага нет. Он что, сырое мясо ел?
– Какое сырое мясо? – удивился Марк.
– Ну, вон, в небе птицы летают, – нетерпеливо взмахнул рукой Публий. – Он, наверняка, добывал их и ел.
– Для того чтобы добывать птиц, нужно оружие, – задумчиво сказал Марк. – А его здесь нет.
– Может, он секирой их рубил? – предположил Публий.
– На суп? – Марк смотрел на брата как на идиота. – Подпрыгивал до неба и рубил?
– Ты не понял! – горячо воскликнул Публий. – Возможно, птицы ночью садятся на гору и засыпают, а отец подкрадывается и рубит их секирой!
– Мгм, – промычал Марк, рассеянно рассматривая нары. – А чем же он брился? Всегда ведь безбородый, будто только что электробритву отложил в сторону.
И здесь вдруг уши братьев уловили какой-то шорох, раздавшийся со стороны выхода из пещеры. Они оба резко обернулись на звук и увидели, как на площадке горы мелькнула странная тень. Крассы молча выскочили наружу и замерли на пороге пещеры.
Возле плахи суетилось несколько странных существ. Они были обращены спинами к пещере и потому Марк с Публием не видели их морд. Зато сзади существа имели вид почти человеческий, если не считать небольших белых крыльев, торчавших из лопаток каждого из них.
Одеты они были в строгие смокинги и узкие, отглаженные в стрелочку, брюки. Головы их венчали черные помпезные цилиндры, а ступни ног каждого украшали лакированные туфли откровенно армянского вида с длинными острыми носками и высокими каблуками конической формы.
– Ну, прямо кавказские дембеля, – прошептал Публий.
Оба брата синхронно задрали головы вверх и посмотрели в серое закатное небо. Птиц там уже не было. Марк и Публий переглянулись и кивнули друг другу. Публий тут же опустил глаза вниз, обшарил взглядом каменистую площадку и, нагнувшись, принялся споро расшнуровывать один из армейских ботинков, в которые был обут.
– Ты это зачем? – так же шепотом поинтересовался у него Марк.
– Ни одного камня вокруг, – ответил Публий.
Он стащил ботинок с ноги, взял за голенище и прикинул его вес.
Тем временем птицы, копошившиеся у колоды, времени даром не теряли. Двое взяли за руки и за ноги тело Красса-старшего, взмахнули крыльями и медленно оторвались от поверхности горы. Еще парочка подхватила колоду и отправилась вслед за первой. Последняя птица (или, может быть, даже не птица, а птиц) схватила окровавленную секиру и тоже взмыла в воздух.
– Стоять! – взревел Марк-младший, бросаясь вперед.
Он попытался схватить за ноги последнего из пятерки странных распорядителей, того, который взлетал с секирой в руках. И это ему почти удалось. В его кулаке оказалась зажатой правая нога пернатого вора. Но последний дернулся и выскользнул, оставив в руках Марка-младшего лишь лакированную туфлю. Крылья его заработали сильнее, и он взмыл вверх сразу метра на два.
Но Публий тоже времени даром не терял. Он размахнулся и бросил. Звук крутящегося в воздухе тяжелого армейского ботинка разорвал тишину. Послышался хлесткий удар и туго обтянутый брюками зад пернатого вора принял на себя всю энергию умело выпущенного в полет ботинка. От такого воздействия крылатое существо чуть не рухнуло вниз! Для того чтобы удержать равновесие, ему пришлось разжать пальцы и тяжелая секира со звоном шлепнулась на площадку перед входом в пещеру.
Существо еще быстрее заработало крыльями и, поднявшись на значительную высоту, присоединилось к остальным собратьям, летевшим с телом Красса-старшего и колодой в руках.
– И вот этими цилиндрическими недоразумениями отец питался? – спросил Марк-младший, поднимая секиру с площадки.
– Вряд ли, – задумчиво ответил Публий. – Крылатые армяне какие-то!
В одной руке он держал свой геройский ботинок, а в другой – лакированный узконосый трофей. Сунув нос в голенище ботинка, Публий вдохнул, подумал немного и нюхнул лакированную туфлю. Если запах своей обуви показался ему привычным, то от проверки трофейной обуви он сморщился, как от касторки.
– Фу, гадость какая! – произнес он, отшвыривая от себя туфлю.
Присев на площадку, Публий принялся обувать ногу.
– Вы, военные, всегда нюхаете обувь? – поинтересовался Марк-младший.
– Что ты ко мне все время цепляешься? – с обидой в голосе спросил Публий. – По-твоему, все военные – идиоты. А ты сам разве не военный? А кто у Цезаря командовал легионом? Ты. И наместником Цизальпинской Галлии был. А это тоже далеко не гражданская магистратура.
– В первой жизни да, – усмехнувшись, согласился Марк-младший. – У знатного римлянина не было другого пути для успешной карьеры. Но еще тогда я понял, что военное дело не мое призвание. И с тех пор никогда больше военным не становился.