
Полная версия
Холодный вечер в Иерусалиме

Марк Меерович Зайчик
Холодный вечер в Иерусалиме
© М. М. Зайчик, 2024
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024
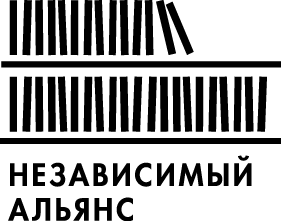
Холодный вечер в Иерусалиме
Эта песня на два сольди, на два гроша…
Итальянская песняОн был громоздок и одновременно очень ловок – одно другому в его случае не мешало. Всегда ходил в башмаках и широких рабочих брюках защитного цвета, которые держались на лямках, натянутых на крепких плечах. Сложение его было обычное, стандартное – никаких мышечных гор, лицо правильное, часто небритое. Руки его как бы не до конца распрямлялись, от него исходило ощущение сдержанной силы. Голова его была правильной формы, обритая наголо. Все-таки это неточность, так как посередине головы была лысина, оставшуюся растительность он аккуратно каждые два-три дня сбривал электробритвой, которую приобрел в беспошлинном магазине в аэропорту Хитроу за сто тридцать фунтов стерлингов, потому что на островах не перешли на европейскую валюту. Как он довольно часто повторял, «дорого, но сердито». Бритва мощно и ненатужно гудела, снимая волосы с затылка и висков. Во время совсем уж большой жары он надевал на голову темно-синюю кепочку с козырьком, отбрасывавшим густую тень на его собранное, почти семитское средиземноморское лицо.
Жил он один в доме, сложенном из мягкого желтого камня на краю поселения возле столицы. Два раза перестраивал внутренний дизайн, рушил стены, перестилал полы, добивался домашней гармонии. Что-то ему мешало. В конце концов, простор объединенной гостиной и кухни с огромным окном и видом из него на газон и небольшой бассейн с фонтанчиком ему понравился, и он оставил его на постоянной основе, к чему со временем привык его пристальный сиреневый взгляд.
Участок его был окружен двухметровыми непроходимыми кустами, в которых в полдень большую часть года летали нарядные птички-колибри, похожие на хлопотливых, встревоженных сине-зеленых стрекоз. Траву он на участке высадил сам, она выглядела изумрудным благородным ковром. Пару раз в год он газон выкашивал жужжащей косилкой с пластиковым суетным ножом. Когда-то он получил образование агронома в институте им. Вейцмана, был такой деятель в середине прошлого века, вроде бы Нобелевский лауреат, очень похожий внешне на Ленина, но не Ленин совсем. Вейцман этот был даже когда-то президентом, чуть ли не первым, этой небольшой, но солнечной страны, как называет Израиль один мой знакомый прозорливый чудак.
По второму своему образованию этот человек был социолог, занимался поведением толпы, которая, как известно, хоть и хаотична, но все равно не лишена некоторой организации. Дипломная работа его называлась «Роль толпы в современном мире». Он доказывал и доказал в результате, что роль этой толпы значительна. Его условный армейский командир, человек в звании полковника действительной службы, присутствовавший на защите, сказал по поводу труда подчиненного: «Очень интересно, очень, хотя и странно, конечно».
На самом деле этого тридцатидвухлетнего собранного человека звали не просто Боря, а Мой Боря, если уж быть точным. Но раз принялись говорить на понятном всем языке слева направо вместо справа налево, то пусть он останется Борей, положительным необычным мужчиной, стремящимся к знаниям и совершенству. Взгляд его дымчатых сумеречных глаз был длительным и ничего хорошего не обещающим для тех, кто всматривался в него. Такие люди находились, в основном это были женщины, пытавшиеся высмотреть в его глазах любовь.
Интересно, что у Бори была и третья специальность, военная. Он вообще был подполковником – распространенное воинское звание здесь. Таких много в этом месте с неторжествующей армейской униформой, но такого как Боря больше не было – так ему внушали командармы. Он был большой специалист в нескольких военных областях, об этом позже. Пока же отметим его склонность к хладнокровной прицельной стрельбе и ночному ориентированию. В нем еще жила боль потери близкого человека, с которой Боря никак не мог справиться уже больше двух лет.
Боря был очень упрям, если можно так назвать неуклонность и настойчивость в поведении. В углу его участка была отгорожена зеленой сеткой земля, по которой, суетно квохча, ходили-бегали три пестрые курицы, надменный неумный петух, пара гусят и дежурившая на несущей балке расслабленная кошка, надсмотрщица, загадочная красавица и охотница. Боря несколько раз на день, проходя мимо, говорил кошке: «И не думай даже», – показывая рукой на гусят. Кошка обиженно закрывала глаза, что, мол, очень нужно, иди своим путем уже, учитель тоже нашелся. Но видно было, что нужны ей эти гусята очень, надо только выждать. На ночь Боря забирал гусят от греха подальше в дом, где в гостиной у него был загон для них: растите, ласточки. На приступке в гостиной стояла корзина с зелеными яблоками, плотными, кисловатыми плодами, сок от которых был ядовито-кислым и прекрасным. Боря кормил гусят и кур специальным кукурузным кормом, зачерпывая его горстью из детского пластикового ведерка и разбрасывая щедрой рукой: поправляйтесь, девочки. К ночи возня и беготня в загоне успокаивалась. Ворчливые злые вороны с провисших проводов электропередач улетали в темноте, хлопая крыльями и ворча на жизнь: «Кыр-кыр-кыр, кирдык тебе, Борис Батькович. Кирдык». Курицы спали в фанерном доме без окон и дверей, была щель рубль вход, выход – два. Кошка неустанно караулила врагов, которых в округе было немало. Она спала на старой диванной подушке в углу, вытянув лапки и положив голову на них: снайпер и бессменный наблюдатель, одновременно сфинкс и царь зверей с непростой внутренней жизнью. Трещали насекомые, звуки их раскрашивали окрестность в разъездной цирк с итальянским усатым хозяином и доверчивой худенькой гимнасточкой с узкими плечами и ногами в телесного цвета рейтузах на неожиданно полных тугих ляжках, от вида которых у местных подростков и взрослых парней после армии мутился рассудок и томились каменные яйца в дешевых плавках.
Настоянный на солнце и цветущих травах день кружил ему голову. Боря, по паспортным данным – Барухи, даже отмахивался от излишних великолепных запахов, потому что считал себя не заслуживающим их. Неподвижный смешанный лес, начинавшийся сразу за грунтовой дорогой по выезде из поселка, был полон гулких птичьих звуков и таинственных шорохов. Сосны, которые были здесь высажены лет шестьдесят назад, образовали на террасах холмов просматриваемую насквозь столичную рощу, в которой легко можно было заблудиться, территория была непредсказуема, как и многое на этой земле. На базальтовом валуне сизого цвета лежала, приподняв голову, ящерица, вершившая охоту. Ее глаза были единственными шевелящимися во всей округе предметами, все остальное стыло и таяло на солнце. Бедуины ловят и высушивают ящериц, делают из них особый настой, считая его большой подмогой в физическом проявлении любви. Просто смотреть на этот напиток с плавающей в нем ящерицей неприятно, пить его еще сложнее, но люди ведь пьют, нужда и надежда заставляет.
Когда у Бори много лет назад был в армии курс выживания, то он питался в пустыне возле Сдома и ящерицами, и другими тамошними тварями, оставлявшими у него во рту неожиданный привкус оскомины и соли.
Магазин был неподалеку, здесь все близко вообще. Боря ходил по дороге вглубь поселка, сворачивал вправо – и третий дом слева был магазин. Людей было мало, так как почти все были на работе. Одна девица катила в удобнейшей коляске на рессорах превосходного, щекастого, веселого младенца с ногами и руками в глубоких складках. Еще одна женщина, одетая в свободное хорошо скроенное платье, везла хозяйственную коляску на бесшумном ходу. В магазине кассирша на выходе, приоткрыв блеклый рот, забыв обо всем, наблюдала в компьютере перед собой неожиданный плотский эпизод из полувековой давности фильма Бергмана «Земляничная поляна». Боря, выбравший для себя и своей гостьи бутылку шотландского виски медового цвета, полтора кило куриного фарша, 300 гр. замороженного бараньего жира, пучок петрушки и копченые сосиски для охотников, кротко стоял перед кассиршей, потупив взор. Та ничего не видела, кроме как двух разнополых взрослых шведов, возбужденно стоявших на коленях друг за другом на экране компьютера.
Наконец женщина, закрыв рот, с трудом вернулась в реальную жизнь («Таня, очнись», – прикрикнула из угла старшая кассирша), увидела Борю в обширных штанах неопределенного цвета и нажатием пальца на клавишу вяло перевела на экран компьютера ценник товаров вместо немолодых пыхтящих шведов, пойманных за запретной игрой искушенным оператором Бергмана. Боря смотрел в пол, он был смущен больше кассирши, покусывал душистую травинку, ну, простите меня великодушно, мадам, подумал, но ничего не сказал. Русский он знал хорошо, но, конечно, с кассиршами говорил на иврите, тоже от стеснения. Фарш, траву и жир Боря взял для котлеток. Он был большим мастером. Мясной отдел здесь был замечательный, продавец был закован в крахмальную куртку и колпак, на стене за ним была роскошная выставка приклеенных к магниту рабочих ножей – все действующие, все острейшие, все сделаны в Испании, родине их. До того как прикоснуться к мясу, этот человек надевал медицинские перчатки.
– С вас 187 шекелей 20 агорот, – сказала кассирша Боре, и он протянул ей деньги. Женщина с роскошным звоном отомкнула кассу и отсчитала сдачу мелочью. Кивнув, покупатель ушел, забрав купленное добро голой по плечо смуглой по локоть от загара рукой. Солнце оставило следы на левой руке, которую он держал в машине на отвернутом стекле водительской двери.
К Боре должна была приехать подруга. Позвонила час назад и сообщила, что голодна как волчица, «сделай, котенок, милый, котлеток, умоляю, розовеньких, а?!». Боря после разговора, забыв все, тотчас ринулся в магазин, потому что раз она просила – то она, конечно, получила. Он ее обожал, эту смешливую добрую девицу с яркими глазами и послушными значительными чреслами, мог сделать для нее большие дела, большие, чем какие-то там куриные котлетки. Что котлетки?! Он мог ради нее совершить преступление против человечности, как пишут на вторых полосах газет. И не одно преступление.
Вот они, эти румяные котлетки из куриного фарша с мелко нарезанным бараньим жиром, замоченным в ледяной воде, и отжатым ломтем белого позавчерашнего хлеба, крошеной петрушки, двух яиц, луковицы на терке – и, пожалуй, это все – и были предметом девичьей страсти. Конечно, панировочные сухарики на тарелке, ну, и там, по мелочи. Был еще секрет: пол чайной ложки питьевой соды, но это на любителя. Иногда он добавлял большую ложку горчицы в фарш, но это когда были у него в гостях другие люди.
Посреди его гостиной с неразделенной кухней у дальней стены стоял камин из красного кирпича. Его сложил за один присест печник из Самарии, морщинистый араб, старый Борин знакомый. Восемь часов размеренной, сходной с математическими упражнениями работы, три часа подготовительных занятий. И вот вам камин на радость, только топи оливковыми тяжеленными дровами, тлеющими часами в студеные иерусалимские вечера.
Каждый обожженный малиновый кирпичик, каждую половинку его араб чистил от пыли, оглаживал грубыми руками, как любимую козу. Ничего не пропадало. Кирпичи были прочные, казались легкими в руках араба. Глиняный раствор, приготовленный на белоснежном дюнном песке второго слоя и дождевой воде, собранной в декабре на крыше его дома под Шхемом, накладывался аккуратно, бережно, лишнее снималось мастерком.
Араб сложил все на одном дыхании с шести утра до пяти вечера, не разгибаясь, не отвлекаясь. Полюбовался камином со всех сторон, обстучал, долго прислушивался к звуку. Протер всю кирпичную поверхность влажной чистой тряпкой, на которой остались черно-серые следы. Затем протопил, поджегши костер во чреве с одной спички, от денег долго отказывался, прикладывая руку к сердцу, уважал. Одна рука закрывала всю его обширную грудь, и еще пальцы вылезали за ключицу.
Потом Боря все же сумел сунуть ему в карман пять зеленых сотенных с изображением мужчины в котелке. Или, иначе говоря, отдал пятьсот долларов за работу Валиду Халедовичу, как назвал бы печника отец Бори, находясь в некотором подпитии. Такие были расценки тогда по каминам, примерно, конечно, потому что точнее не узнать, кто там что может знать с ценами на камины в Иудее?
– Это дешево, просто бесплатно, – сказал Боре вальяжный сосед, ушлый человек, торговец персидскими и афганскими коврами, которые заменяли в его доме обстановку. К Боре он относился снисходительно. Он-то знал расценки на все, до последнего груша. Напомню, что груш – это груш и есть, ничего, то есть. Денежная единица, обозначающая ничего. Груш – это то, что по-русски означает «грош», если еще не поняли, но вы, конечно, все уже сами поняли.
Араб после работы оставил тогда на стене камина свой фирменный знак: две скрещенные сабли, умело, красиво, безошибочно выцарапанные граненым гвоздем с квадратной шляпкой. «Сабли эти мне дороже денег, всегда ставлю на своих печах», – коряво объяснил он Боре, который наблюдал за ним с нейтральным выражением лица. Рука печника была корява, уверена и точна. Кирпич он слушал на звук, постукивая кривым пальцем в него, как в дверь извечного друга, почти брата.
Хозяин магазина стоял во дворе на солнцепеке и наблюдал за входом с ленивым видом знатного бездельника. У него был вид пройдохи, с заложенными за пояс большими пальцами, со сдвинутой на затылок щегольской соломенной шляпой, с расстегнутым воротом дорогой рубахи.
Да он и был пройдохой, если быть точным. Привозил фрукты и овощи от неизвестных поставщиков, однажды у него ветеринары на госслужбе изъяли мясо с просроченными на пару месяцев датами использования, красивейшие куриные яйца, доставленные без необходимых штампов о пастеризации на скорлупе.
Он переставлял цены – и так далее, можно было бы продолжить этот увлекательный список. Забор вокруг его дома был украшен поверху проволокой – дело неслыханное в этих краях в частных домах, такой привычки у людей здесь нет. Он был нагл, решителен, уверен в себе, про жадность его ничего известно не было, одни предположения.
С Борисом он поздоровался уважительно и осторожно. Даже в глаза сбоку заглянул, вывернув шею. Откуда-то у него было почтение к этому молчаливому скромному мужику, откуда – неизвестно. Боря, смешавшись, ответил ему, никак и почти никогда у него не получалось холодное презрение в разговорах с неприятными ему людьми. Впрочем, в шестьдесят седьмом году этот самый сальный тип на несколько лет моложе, а точнее, на сорок лет, был среди тех, кто с бешеным криком рубился врукопашную на Оружейной горке, забегал в Старый город Иерусалима через Львиные или Гефсиманские ворота, рыдал над погибшим от дурацкого осколка другом с вываленными дымящимися кишками, блевал, прислонив башку в каске к железному столбу, волновался у Стены, пылал от восторга великой военной победы. Это не помешало ему стать тем, кем он стал через несколько лет. Или он всегда таким был, непонятно. «Каким человек родился, таким он и помер», – так говорила Борина мать на еврейском диалекте, будучи старой, растрепанной, больной, не вполне адекватной женщиной, но она была права.
На плечах у хозяина вырос за эти годы неряшливый горбик из жира, отложения от возраста и жизни, что совсем не добавляло этому человеку внешнего обаяния. Нельзя сказать, что ему это не мешало, но он справлялся со своим видом. Борю хозяин магазина считал аристократом, что было не то что неточно, но даже смешно. Дед Бори со стороны матери возил на подводе лед в Тель-Авиве и окрестностях. Лед тогда заменял в домашнем хозяйстве холодильники.
Это было сразу после провозглашения независимости. Он кричал лошади: «Тпру, родимая», – никогда ее не хлестал, называл кормилицей, косил ей сочную прибрежную траву у Яркона. Кличка лошади была Сейсма. Жена деда умело и очень вкусно готовила в небольшом кафе на шесть столиков на улице Алленби национальные блюда европейской кухни, заодно исполняя на месте также обязанности официантки и уборщицы.
Дамы-посетительницы были в замечательных платьях из шелка и крепдешина с выточками, цветами по подолу, мужчины пили дешевый коньяк и резкий арабский кофе, слушая музыку, которая звучала из-за прилавка – там работал патефон. И невероятно популярное тогда танго кружило головы населению. «Не говори мне прощай», – низким голосом пела местная исполнительница, которую звали Яффа, что значит «красавица».
Между собой дед и бабка Бори говорили на диалекте, громко выговаривая слова. Эхо металось по их комнате с низкими потолками. Они не ругались, но Боре всегда казалось, что слова их обидные, так это звучало. Боря уже не застал ни лошади Сейсмы, ни сарая, в котором ее держали, но в семье много говорили со счастливым весельем об этом времени и работе деда.
Он был среднего роста, бородатый, мог выпить и выпивал. У рыжеволосой бабки было темное морщинистое лицо, видно было, что совсем недавно она была хороша собой. Мать Бори пошла в нее, а сестра матери, популярная у щеголяющих дам портниха, была похожа на своего отца, совсем не красавца, что для мужчины не так важно, но для женщины самое главное.
Мать Бори, не праздная, обаятельная, полногубая женщина, тридцать восемь лет проработала в страховой компании в двух автобусных остановках от дома, за ней ухаживали мужчины, но она была верна своему чубатому корявому беженцу. Отец Бори был шофером на советском лесоповале во время войны, говорил по-русски без акцента, умеренно ругался матом. Во время войны с немцем он находился в Сибири в качестве польского беженца. Имя ему на работе дали Федор, а что?
От рождения он был Фишелем, но произнести там такое никто не мог. Достоинство у него было от рождения и происхождения. В Советском Союзе он научился жизни, уму, сдержанности, мог принять стакан и запить его вторым стаканом. Иногда он уже здесь, в Средиземноморье, по-простецки выдавливал в стакан со спиртом половину спелого помидора, называя получившееся «напитком нашей красной Мэри», вы знаете, что он имел в виду. Но вообще, водку он любил пить с чаем. Вот и весь аристократизм.
Еще у Бори был брат, он жил заграницей. Только вот ученый засранец брат и Боря, да тетка в доме престарелых, остались от всей этой семьи. Время слизало этих людей толстым безжалостным бесчувственным языком, будто никого из них и не было никогда: ни глазастого деда, ни рыжеволосой бабки, ни королевы мамы и ни выпивающего после работы отца, принявшего душ, пригладившего прямые волосы назад. Он сидит за круглым столом с победоносным видом перед зеленым салатом, красным густым супом и нейтрального цвета загадочной бутылкой «Кеглевича». Он в белоснежной майке, шортах «хагана» и тапках, сооруженных им из старых башмаков со срезанным бритвенным ножичком задником, конечно же, на босу ногу.
Что-то мы все о грустном и о грустном. А тут Боря быстрым шагом движется под полуденным солнцем домой с двумя наполненными продуктами пакетами, в которых находится все необходимое для жизни и любви. Кошка встречает его вместе с петухом и курами, без улыбок и криков, но одобрительно. Гусята недовольны, но они молоды и еще не в теме. Трудно поверить, но мать Бори учила его в детстве музыке, он играл на флейте безуспешно. «Медведь на ухо наступил», – хмуро говорил подвыпивший отец по-русски, но Боря уже понимал. Интерес к музыке у него пропал, казалось, безвозвратно. Теперь вот, через девятнадцать лет, он вспомнил и иногда наигрывал на деревянной дудочке, приобретенной на ярмарке в Германии, простые мелодии из детства. Животные его замирали при этих пастушьих звуках, женщина его, вскочив из постели, своего постоянного и любимого местонахождения, начинала танцевать, обвернувшись простыней со следами их утех. Она была гибка, гладка, склонна к полноте, но пока это было не очень заметно, даже привлекательно, это тяжелое гармоничное вызывающее женское мясо в любовном поту, который еще не высох. Мама была бы довольна, если бы услышала Борино музицирование сегодня, но она давно ушла куда-то за облака наверх, даром что облаков-то здесь, в этом краю, нет, разве что в короткий чудесный промежуток времени с ноября по март. Но это не в счет, этот кусок осенней погоды Палестины, не в счет, потому что все быстро забивается апрельской, майской, июньской и последующей жарой, которая была уже и не жарой, а так, дурным июльским сном.
Несколько бутылок галисийского белого вина «альбариньо», маслянистого и свежего на вкус, Боря привез из Испании. Бутылки лежали в специальных ячейках в темном углу гостиной, пылились и покойно ждали своего часа. Он предпочитал виски, которое не имело обычая сохраняться – он его почитал и употреблял. Нет нужды говорить о том, что виски Боря принимал в чистом виде, без льда, содовой и каких-либо других ухищрений, все-таки он многое видел в жизни отца, который постоянно повторял русское слово «чистяк» по отношению к своим выпиваемым напиткам. Несмотря на «нашу красную Мэри», которую изредка отец подготавливал от некоторого избытка достатка и баловства, он совершенно не мог понять посторонних привнесений не только в алкоголь, но и в другие жизненные составляющие. Он неожиданно верил рекламе, которая в его годы все-таки была не столь агрессивна. Реклама тогда была проста и сурова: хочешь быть здоров – покупай шоколад фирмы «Гросс». Никакого приближения к нынешним великолепным кадрам с затихающими и нарастающими звуками счастья за безупречными малоподвижными лицами манекенщиков и их не менее безупречных полуодетых подруг. «Хочешь стать таким как я, кушай стейки «Братьев Курага» – лозунг воплощали в жизнь сотни и тысячи зрителей, наблюдавших по ТВ мясные трапезы замечательно красивых девиц и их не менее привлекательных мужественных друзей.
Без стука вошла его веселая, постоянно смеющаяся чаровница. «Ох, как хорошо у тебя, прохладно, тихо», – сказала она с порога. «Можно подумать, что на улице шумно», – подумал Боря, глядя на нее. «Всякое препятствие любви только усиливает ее», – сказал он гостье. Женщина сияла ему навстречу, зияя распахнутым в счастливой улыбке пунцово-желанным ртом. За нею, осторожно ступая, зашла кошка, поглядеть, что да кто, да почему. Кошка выгибала спину, гнула ее дугой, женщина тоже. Иногда эта кошка с устатку ела крупных боевых муравьев, собирая их на мраморном полу крыльца, толкая и подбрасывая лапками и широко раскрывая треугольный рот с перламутровым небом и коротким алым язычком.
Боря носил очень дорогие часы, которые не вязались с его внешним малозаметным обликом. В начале года он был лектором на семинаре по проблемам выращивания свеклы, которая, как выяснилось, произрастает во многих местах земли – полезный и вкусный корнеплод.
Семинар проходил здесь, в сорока пяти минутах езды от дома, если без пробок. Боря испросил разрешение у командования, получил его и неделю общался с дамочками и мужчинами из разных славянских стран. Делился опытом и знаниями. Мог ли об этом мечтать его отец долгими сибирскими ночами? За Борей записывали на магнитофон старательные агрономши из средней полосы России. Чеченец Заур аккуратно исписывал за лектором его знания за последним в аудитории столом. Боря докладывал по-русски, все удивлялись, как же так, откуда знания русского у местного? «Из дома», – отвечал им Боря. Когда он сказал, что его отец был в Сибири бесправным беженцем, глаза Заура блеснули. «Ты борец? – спросил чеченец после лекции. – Внешне похож, дзюдоист?» – «Таким уродился», – ответил Боря. «А похож», – задумался Заур.
Потом у Бори был день рождения (знак зодиака Водолей), и он сказал, что второй лекции сегодня не будет по уважительной причине. «Ой, а что, Борис Фишелевич, случилось?» – заволновались девчонки. «Ну, у меня сегодня день рождения, простите, девушки», – сказал Боря. «Ой, а у нас и подарка стоящего нет любимому лектору». – «Я прошу вас не нервничать, у меня все есть». Одна девушка сбегала в общежитие через дорогу и принесла Боре бутылку водки со словами «настоящая, не паленая». Боря не понял, но был растроган. Подошел Заур и сказал при всех: «Слушай, не знал, извини, это тебе на скорую руку, брат, подарок, я запомнил про твоего отца». Звук его низкого голоса был долгий и никак не хотел замирать. Он снял с широкого запястья левой руки невероятной красоты и ценности тонкие часы, на которые было невыносимо смотреть, и надел их на руку Бори. Было очень похоже на то, как надевают наручники энергичные полицейские на правонарушителей, но это были, конечно, не наручники. И Боря не был правонарушителем. Девушки зааплодировали, зашумели, как развеселившиеся горничные, тут же разлили водку в одноразовые стаканчики и хлопнули по порции за Бориса Фишелевича, хорошего, знающего и, по их навязчивому мнению, красивого человека. Он им казался человеком без недостатков, кроме одного, правда, неизлечимого. Но ведь бывает, правда, девочки? Правда. А как жаль, ну и что, а парень какой, а, девочки?!


