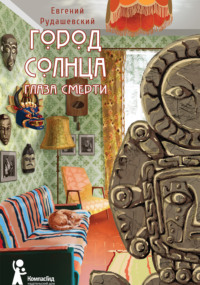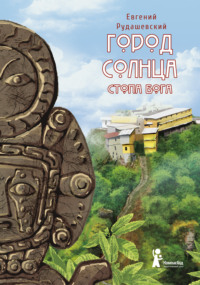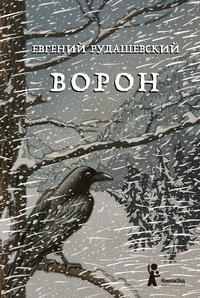Полная версия
Эрхегорд. Забытые руины

Евгений Рудашевский
Эрхегорд
Забытые руины
Роман
Глава 1
Горсинг
К великому сожалению, путевой архив достославных потомков Дюрка Вин-Гейля был окончательно утрачен после того, как семью вин-гейльцев, за несколько веков странствий превратившуюся в подлинное кочевое племя, рассеяли степные гулы Земель Нурволкина.
Сам Вин-Гейль в окружении ближайших друзей и родственников начал свое путешествие сорок три поколения назад. В поиске святых мест он объявил паломничество длиной в сто поколений, устремленное исключительно на запад, и завещал своим потомкам не останавливаться даже в безмятежных местах, соблазняющих к длительной стоянке, а то и к окончательному оседанию и процветанию.
И все сорок три поколения его дети шли к заходящему солнцу, отклоняясь лишь в приближении к неодолимым преградам, одной из которых стали горы Западного Вальнора. Пройдя сотни царств, земель, долин, княжеств и свободных городов, одолев пять морей, последним из которых стало Сенгок’ун-Дийское, вин-гейльцы щедро делились путевыми знаниями с каждым, кто к ним обращался, но трепетно берегли архив, в котором наиболее полно описывались их странствия, начавшиеся более тысячелетия назад в долине, названной Нубер, в окружении народа инг-дегтианцев («детей неба»). Истории, рассказанные о долине Нубер, для нас звучат диковинными легендами, и такой архив мог бы послужить ценнейшим источником новых знаний о народах, живущих за пределами Великого торгового Кольца.
«Поучение о разнообразии народов». Гаон Свент из ЛикинораГорсинг смотрел на то, как подрагивают его пальцы. В очередной раз изучал свою кисть, будто мог хоть отчасти понять, что с ним происходит. На сухой, побледневшей ладони теперь выделялись даже самые незначительные рубцы и мозоли. Горсинг знал, что будет дальше: дрожь поднимется к предплечью, затем к плечу, наконец, перекинется на грудь и медленно, вызывая рези в животе, опустится к ногам. Когда начнут непроизвольно сгибаться колени, управлять собственным телом станет трудно. Но Горсинг не думал доводить себя до крайности. Сейчас нельзя было рисковать. Беспорядочные движения пальцев – такие, будто он онемевшей рукой пытался играть на струнной тойбе, – вот и все, большего Горсинг себе не позволял.
– Когда-нибудь меня это подведет. – Заметив хмурый взгляд сидевшего поблизости Вельта, Горсинг сжал кулак. Дрожь мгновенно прекратилась.
Это началось дней десять назад. Поначалу, когда еще никто не понимал, что именно происходит, было страшно. Наемники боялись спать. Боялись просто лежать или сидеть. Стоило расслабиться, и тело начинало действовать само по себе. Подрагивающие пальцы не худшее из того, что могло случиться, хотя в первое время пугала даже такая мелочь. Хуже было обнаружить, что твоя рука, потеряв чувствительность, неестественно выгнулась в суставе: качается, будто лишенная костей и сухожилий, потом выпрямляется и как ни в чем не бывало сама возвращается на пояс или на колени – туда, где была до судороги.
«Судороги» – так в отряде Горсинга называли эти непроизвольные движения, даже если речь шла о том, чтобы ночью подняться из постели и, не просыпаясь, отправиться куда-то на подгибающихся ногах. Со стороны могло показаться, что невидимый кукловод поднял на растяжках большую марионетку и, едва справляясь с ее весом, неловко передвигает ее вперед.
– Судороги, – прошептал Горсинг, с омерзением вспоминая, как то одни, то другие части тела начинали двигаться независимо от его воли.
Сокращается мышца, о существовании которой ты раньше и не задумывался. Или западает язык. Или выкручиваются кишки, будто в них копошатся трупники. Иногда лицо искажает гримаса боли – глаза закатываются, губы синеют, а потом, когда судорога проходит, все узнают, что не было ни боли, ни других ощущений, просто ты задремал или о чем-то задумался.
Изменился запах тела. У людей Горсинга, конечно, был запас мыльного порошка – наемники, часто бывающие в лесах Восточных Земель, привыкают мыться два-три раза в неделю, а заодно натираться лепестками цейтуса. Но ведь пахнут смазанные жиром кожаные доспехи, пахнут пропитанные льольтным маслом мешочки трав, соленые от пота поддевки, ремешки, ластовицы, наконец пахнут гронды: сняв их после трехдневного перехода, можно удавиться от зловонья. А тут – ничего. В отряде Горсинга, кажется, все успели тайком обнюхать себя, и выглядело это довольно глупо. Но даже занырнув носом в самую глубь гронды, нельзя было уловить и намека на привычный кислый смрад.
Из всех явных запахов остался один – запах гари. Он угадывался сразу, стоило запалить факел или развести костер на одной из улочек Авендилла. А вот грязное тело, как и пропитавшиеся потом вещи, теперь пахло чем-то непримечательным, едва уловимым.
– Так пахнет в комнате, которую не проветривали пару недель. Сухая пыль, стоялый воздух, – сказал как-то Вельт.
Горсинг не ответил. Не хотел это обсуждать.
– Может, и хорошо, что лечавки погибли, – с грустью добавил Вельт.
– Это почему? – удивился Сит.
– Потому. – Вельт сплюнул и не добавил ни слова.
Вельт был по-своему прав. Лечавки отказались бы признать людей, лишенных привычного запаха. Пришлось бы с ними возиться, а сейчас было не до того. Они погибли двадцать дней назад. Они и два наемника. Горсинг потерял в Авендилле бóльшую часть отряда. Теперь об этом вспоминали реже. Все шло к тому, что живые последуют за мертвыми. На пути к Гаурским кузням становилось тесно. Кажется, и магульдинцы уже не верили Гийюду.
Авендилл… Желтый город[1]. Стены его домов – и старых, и новых – были покрыты речной глиной, которую добывали на зыбких берегах Авенды. Глину смешивали с меловой крошкой и очищенным речным илом. Она застывала бугристой коркой, поначалу темнела коричневыми пятнами, но быстро выцветала на солнце и становилась бледно-желтой. После шлифовки ее цвет окончательно выравнивался, а бугристость сменялась приятной шершавостью. Крыши домов, односкатные и пологие, также покрывались исключительно желтой черепичной кровлей.
Глина теперь растрескалась и осыпалась, а черепица успела расползтись, будто город простоял в запустении не двенадцать лет, а все пятьдесят. Авендилл быстро и неотвратимо превращался в руины, затягивался мелкой растительностью. Его объезжали стороной. А прежде это был шумный город, продуваемый ветрами и потому почти лишенный гнуса. В округе не сохранилось лесов, а до ближайшего, Лаэрнорского, было двадцать верст, так что даже дикие звери не часто беспокоили горожан.
На этих двадцати верстах, к востоку, разместилось единственное, теперь опустевшее, крестьянское поселение, в остальном город и предместья расширялись исключительно на север. Застроенный по большей части одно- и двухэтажными домами, Авендилл давно перемахнул через северную крепостную стену и вплотную приблизился к Авенде; новый городской участок только с полвека назад огородили дополнительной деревянной стеной. За рекой, оседланной двумя каменными мостами, начинались села, пастбища и посевные поля. Там до сих пор жили люди – когда Авендилл опустел, они приучились вывозить свои товары на запад, в Дар-Иден, или на юго-запад, в Икрандил[2].
Дальше на север, вплоть до Бальских сопок, встречались только охотничьи угодья, и протянутая к ним дорога давно пришла бы в запустение, если б не Хлорисные озера, где жители сразу двух рабочих поселений добывали и обрабатывали сгущенные пласты хлориса.
Горсинг прислушивался к мертвенной тишине города. Не верилось, что где-то поблизости все еще течет нормальная, не обеспокоенная вырождением жизнь.
Пальцы Горсинга продолжали дергаться. Чем больше расслаблялась рука, тем сильнее становилась судорога, но подняться ей к плечу Горсинг не позволял. Просто следил за тем, как бледная кожа покрывается красной сыпью. В складках ладони уже блестел пот. Так могло повторяться до сотни раз в день: рука то сохла и бледнела, то покрывалась испариной и раскалялась пунцовыми оттенками, будто ее ошпарили кипятком. И никаких ощущений. Только глухое онемение.
– Да, когда-нибудь меня это подведет, – с неизменным унынием повторил Горсинг.
Левой рукой ощупал второй, короткий, клинок, скрытый под полами цанира. Ходить, а тем более сидеть с двумя мечами было неудобно, но в последние дни оружие успокаивало лучше любых обещаний Гийюда.
– Долго еще? – зевнул Вельт.
За последний год на его и без того немолодом лице заметно прибавилось морщин.
– Ты куда-то торопишься?
– Нет, Горс, не тороплюсь. Но я бы предпочел не просиживать задницу. Мы тут с рассвета. Скоро полдень. Это уже третья засада.
– Раньше… – Горсинг помедлил, – раньше засады были другими.
– Это да, – нехотя согласился Вельт. – А если и эта не сработает?
– Тогда Аюн останется жив.
– И?
– И завтра у тебя будет отгул. Можешь идти куда хочешь.
– Хорошо. Я пойду к Овражным полям.
– Ты знаешь, толку не будет.
– Знаю. Но я должен попробовать. Не хочу подохнуть тут с мыслью, что сделал не все, что мог.
– А с такой мыслью подыхать будет сладко?
– Нет, Горс, не сладко. Но и без горечи.
– Парунку[3] не доверяешь?
– Доверяю. Но это птица. Может, у нее там в голове тоже все перекрутилось. Что, если она ничего не почувствует, а мы так и будем тут сидеть?
На это Горсингу ответить было нечем. Он знал, что Вельт прав, и даже по-своему был ему благодарен. Кажется, остальные отчаялись и только ворчливо ждали, когда умрут – от какой-нибудь заразы, от зордалина или от очередной судороги, которая остановит им сердце или скрутит легкие. Еще неделю назад идея пожертвовать Аюном показалась бы им ужасной, а сейчас за бегунка никто не вступился. Никто. Даже Вельт промолчал. И теперь Аюн сидел посреди Белой площади. Его привязали к колонне на короткую веревку, с такой не сделаешь и трех шагов. Чуть покачивался, не то в отчаянии, не то в судороге. Из последних сил зажимал рану на ноге. Уже не дергался, не кричал, не пытался вырвать кольцо из колонны, будто догадался, что все ждут от него именно этого.
Белая площадь располагалась на востоке Авендилла, в пяти кварталах от ратуши. Собственно, площадью ее назвать было трудно, так как все пространство между домами занимала Дикая яма – стянутое смотровыми рядами место для боев и состязаний. Дно ямы некогда было присыпано белым песком, который наместник Авендилла закупал в Южных Землях – удовольствие недешевое, учитывая, что песок приходилось везти по Кумаранскому тракту, в обход Ничейных земель, через Лощины Эридиуса, дважды выплачивая монитам пошлину: в Саарминском ущелье и в Орской ложбине.
Круговое двухсаженное ограждение, отделявшее смотровые ряды от боевого круга, створки выпускных ворот и кольца, к которым крепились клетки, как и сами клетки, были выкрашены в белый цвет. Даже круговая улочка между Дикой ямой и ближайшими домами была выложена белым речным камнем, который, впрочем, давно стал пегим из-за проросших там лужаек коричневого мха. Оружие и доспехи также выдавались исключительно белые. Все, чтобы зритель увидел даже крохотное пятнышко крови. Когда крови становилось много, белый цвет уступал, и неистовство на смотровых рядах становилось оглушительным.
Горсингу, сидевшему на подгнившей деревянной скамье второго ряда, порой казалось, что он слышит жадные, ликующие крики этих людей – тех, кто приезжал сюда для простого развлечения, и тех, кто хотел поднять игровой залог на одном из бойцов. Горсинг в Дикой яме был лишь однажды. Собственно, после того, как опустел Авендилл, на все Восточные Земли яма осталась одна – в Матриандире. И сейчас, в полуденной тишине, всматриваясь в то, как беспорядочно дергаются пальцы правой руки, он начинал угадывать отзвуки праздничного шума, оборвавшегося здесь двенадцать лет назад. Наваждение было по-своему приятным. Хотелось его усилить – сосредоточиться на нем, не шевелиться и постепенно увидеть, как вокруг, на других скамьях, проступают силуэты горожан: торговцев, скорняков, булочников, лудильщиков, портных, коноводов – самых обычных людей, заплативших не меньше половины месячного жалованья, чтобы три дня по шесть часов наблюдать за тем, как Белая площадь окрашивается в красный.
Вздрогнув, Горсинг огляделся. Не хотел, чтобы кто-то увидел его в таком состоянии. Однако остальным сейчас явно было не до него. Возможно, наваждение терзало и других. Еще одна странность заброшенного города. Блуждающие воспоминания – слабые тени давно угасшей жизни.
– Что скажешь его матери? – Вельт неторопливо растирал между ладонями ломтик ганитной смолки.
Горсинг, не глядя на привязанного к колонне Аюна, тихо ответил:
– Правду.
– Дальма спросит, почему именно ее сын.
– Не спросит. Она знала, что однажды случится что-нибудь такое, глупое.
– Да, – без улыбки усмехнулся Вельт, – она ему всегда говорила, подносчики булочек первые попадают под раздачу.
– Подносчики булочек…
– Да. Одни сидят тихо, ждут своего часа и не высовываются. А другие бегут за булочками, если видят, что кто-то проголодался.
– Я помню, Вельт, можешь не повторять.
– Потом на всю жизнь остаются услужливыми и бестолковыми. И однажды услужливо подставляют грудь под стрелу, предназначенную другим. – Вельт положил под язык растертую смолку.
Обычно от него в такие мгновения пахло сосновой хвоей. Обычно. Но не сейчас. Сейчас запахов не было.
– Это случается. – Горсинг опять заметил недовольный взгляд сидевшего на первом ряду Гийюда – магульдинец просил всех молчать и прислушиваться к городской тишине, но Горс чувствовал, что должен как-то оправдаться. Не перед Вельтом. Перед самим собой.
– Что? – Вельт, вытянув губы, посасывал смолку. Его смазанные маслом усы топорщились и поблескивали на солнце.
– Люди гибнут.
– Но не так.
– И так тоже.
– Да, если ты какой-нибудь поганый крысятник или отчаявшийся рыскарь.
– Как видишь, не только.
Мать и старший брат Аюна ждали в лагере на Старой дороге. Брат Тарха и жена Сита ждали в Целинделе. Им бы самое время заволноваться и выслать сюда подмогу. Отряд Горсинга не давал о себе знать больше месяца – большой срок. К тому же Горсинг отправил Эрзе первого бегунка еще до того, как встретился с красными. Но подмоги по-прежнему не было. «И не будет… Возможно, Гийюд прав – дорога закрылась не только отсюда, но и сюда. Никто больше не придет в Авендилл. По меньшей мере, в тот, где мы находимся. Что бы это ни значило».
– У нас не было выбора, – прошептал Горсинг.
– Я знаю.
– Ты…
– Чего?
– Ты это слышишь?
Вельт не ответил.
В тишине опять угадывалось приглушенное эхо голосов. Грохот нарнаитских барабанов. Звон наместных труб, возвещавших славу и силу роду Эрхегорда. И гул сотен людей, собравшихся на Белой площади, чтобы следить за трехдневными боями.
Под настилом нижнего ряда пряталось двенадцать загонов. Некогда в каждом из них своей минуты ждали бойцы. Не только люди. Дикие звери. Иногда черноиты и даже салауры. Никто, кроме распорядителя игр, не знал их точного состава и расположения. Все зависело от объявленного числа клинков. Самые жестокие и кровавые бои устраивались в Дикой яме трех клинков. Самые тихие, с наименьшим числом смертей и при участии наименее интересных бойцов, проводились под флагом одного клинка.
Наместник города, кто-то из почетных гостей или сам распорядитель наугад вынимали из игровой чаши два каменных кубика, на каждом из которых были выбиты номера загонов. Затем открывались соответствующие выпускные ворота, из которых на дно Дикой ямы выбегали бойцы. Так, на белом песке в противостояние могли вступить два человека среднегорной полосы и мавган, два нарнаита и три дворка, ирбис и сиргоитный кабан, черно-бурый медведь и две наргтии – все зависело от распорядителя, который, конечно, старался привлечь в яму обученных бойцов.
Люди, будь то нарнаит, дворк, маор или самый обыкновенный человек среднегорной полосы, выбегали на дно без одежды и снаряжения. Как и дикие звери, они были выкрашены алонными белилами, но людям давали преимущество – на колонне, стоящей в самом центре ямы, висели доспехи и оружие. Правда, добраться до них было непросто. Для начала требовалось преодолеть два ряда клеток, стальными кругами опоясывавших колонну.
Первый ряд был высотой в аршин и шириной в две сажени. В нем держали мавганов. Требовалось запрыгнуть на клетку, пробежать по ее выкрашенным в белое прутьям. Задача простая, если не учитывать, что снизу бойца с рычанием цепляли разъяренные мавганы. Они могли до костей исполосовать ничем не защищенную ступню или вовсе вырвать из нее кусок мяса, если боец, оступившись, падал ногой между прутьев. Случалось и так, что мавганы, ухватив жертву, больше не выпускали ее, поначалу терзая ноги, а затем добираясь и до остального тела.
Второй ряд клеток был высотой почти в три аршина и шириной в три сажени. В них поджидали затравщики – те из людей-бойцов, кто уже участвовал в бою или только готовился вступить в бой на следующий день. Они нападали не так озлобленно, как мавганы, и действовали куда более осмысленно. Если во втором ряду стояли нарголы или дворки, опасным оказывался лишь спуск с клетки – рост не позволял им дотянуться до верхних прутьев, своего шанса они ждали по краям. Остальные затравщики старались сразу повалить бойца, затянуть к себе его ногу или руку. Убивать или тяжело калечить не было смысла. Они старались нанести бойцу незначительную травму – такую, чтобы он мог и дальше участвовать в бою, а последствия травмы сполна ощутил лишь после его окончания, если он, конечно, вообще выживет. Поэтому загонщики, как правило, ограничивались тем, что выламывали один или два пальца, надрывали ухо или били по ногам до багровых синяков.
Выбежав на дно ямы, каждый боец действовал в зависимости от своего опыта, силы и противника. Когда друг против друга вставали люди, можно было сразу броситься за оружием, а можно было подождать, пока это сделает твой соперник, и затем надеяться, что он либо погибнет на первом же ряду клеток, либо вернется в доспехах и с мечом, но до того израненный, что победить его не составит труда. Все добытое оружие доставалось победителю, с ним он участвовал в итоговом, адельвитном, бою.
Если бойцы выходили в паре, то один мог отвлекать мавганов из первых клеток, давая шанс напарнику пробраться к снаряжению. А кто-то предпочитал бежать в связке, помогая друг другу отбиваться от загонщиков. Чем больше клинков объявлялось в Дикой яме, тем более разнообразной оказывалась тактика.
В последний, третий, день Дикой ямы в загонах своего выхода ждали победители двенадцати предыдущих боев. Тут случайный выбор каменных кубиков становился особенно важным, потому что к победителю первого поединка сразу выпускали нового соперника – чтобы одержать окончательную победу и получить венок адельвита, ему предстояло одного за другим одолеть одиннадцать соперников. За всю историю Диких ям в Авендилле такое удавалось лишь пяти бойцам.
На адельвитный бой разрешалось подписывать долговой залог, никаких ограничений, кроме оценочного предела, заверенного в Заложном доме, не существовало. Обогатиться или оставить состояние в Дикой яме было делом обычным, так что шум на смотровых рядах действительно стоял оглушающий.
Лучшие места занимали наместник, распорядитель и почетные гости. Они располагались в смотровой чаше, которая венчала центральную колонну посреди Дикой ямы. Это была массивная ложа, как и сама колонна, вырубленная из карнальского камня мастерами Багульдина. Внутри каменной чаши размещалась деревянная; в ней стояли смотровые козетки, трапезные столы, отхожие бочки и даже меховые ленники – для тех зрителей, кто захочет вздремнуть, утомленный затянувшимся боем. От деревянной чаши тянулся десяток витых канатов, они белыми дугами расходились во все концы Белой площади и крепились к стенам домов. Так было сделано на случай обрушения колонны – в Восточных Землях хорошо запомнили случившееся больше века назад Третье глубинное землетрясение.
Из смотровой чаши разрешалось не только наблюдать за боями, но также забрасывать бойцов небольшими ткаными мешочками с песком. Даже при попадании в незащищенную голову они не причиняли ощутимого вреда, но, удачно брошенные в нужный момент, могли повлиять на исход противостояния – достаточно было привлечь внимание мавганов из первого ряда клеток к незаметно подкравшемуся бойцу. Впрочем, их главным назначением было развлекать почетных гостей, которые нередко устраивали своеобразное соревнование в меткости. Отчаявшись попасть в подвижную цель, гости часто выбирали цель попроще – тех, кто уже был серьезно ранен и просто ждал, когда настанет его черед умереть.
Горсинг с унынием смотрел на облупившуюся, обнажившую серые бока карнальского камня смотровую чашу и пытался представить, как именно туда поднимали гостей. Этого Горсинг не знал. Надеясь отвлечься от томительного ожидания, представлял то громоздкую лестницу, по которой карабкаются разодетые богачи, то навесную лодку, которую пускали по крепежным канатам прямиком в центр Белой площади, а то и подъемную ступень из метательной варны, вынужденной поднимать людей вместо снарядов.
За двенадцать лет запустения облупилась не только смотровая чаша. Краска облезла и с кругового ограждения, и с выпускных ворот, и с лавок смотровых рядов, и с колонны. Белый песок выветрился, а те небольшие насыпи, что остались по углам, пожелтели. Клетки проржавели и сейчас стояли в загонах. Белая площадь давно перестала быть белой, а яма превратилась в ловушку для мусора – все эти годы его ветром сносило на дно, оставляя тут гнить и разлагаться. Вчера вечером, готовя западню, Гийюд распорядился разобрать этот завал, и теперь можно было подумать, что кто-то решил возобновить в Авендилле Дикую яму.
– Ну что ж, зрители собрались, – прошептал Горсинг.
За сражением в боевом кругу можно было наблюдать и с балконов сразу трех постоялых дворов. Собственно, все таверны и постоялые дворы Авендилла располагались именно здесь, на Белой площади. Трехэтажные, сложенные из карнальского камня и даже украшенные лепниной, они сохранились лучше всего – наравне с богатыми домами Торговой площади. Восстановить их фасады было бы нетрудно: достаточно подлатать стены, освежить земляные сикоры на крышах и выступах между этажами, кое-где счистить наросты мха и ползучих растений.
– Думаешь, жизнь сюда вернется? – спросил Вельт.
Кажется, его преследовали те же мысли.
Горсинг не ответил Вельту. Наемник и не ждал этого. Сам знал, что в такие города жизнь возвращается редко. Даже Вепрогон, хотя прошло сорок лет после Черного мора, до сих пор стоял в запустении. А ведь это был крупный город возле Кумаранского тракта. Южане так просто не отступают с обжитых мест. Однако тут они испугались.
Конечно, никто не доказал, что Авендилл именно выродился, но шансов на восстановление у него теперь было немного. Едва ли кто-то рискнет вновь заселять эти здания. А Дикую яму со временем откроют где-нибудь еще: в Икрандиле или в Целинделе. Одной ямы на Восточные Земли явно мало.
В последние годы подобных развлечений в Землях Эрхегорда становилось все больше. В Эпоху Прарождения или в Светлую эпоху никто бы не отпустил своих пленных или каторжников на подобные бои, для них было предостаточно дел на строительстве Кумаранского тракта, на возведении новых крепостей. А уж нарочно тренировать бойцов, чтобы потом для развлечения горожан устраивать массовый забой, ни у кого бы не возникло и мысли, в здешних краях и без того всегда находился повод умереть. Теперь же в Западных Землях проводили Красный гон, в Северных Землях устраивали Ночь огня, а Дикую яму полюбили во всех Землях без исключения, особенно в Лощинах Эридиуса.
– Горс?
Горсинг слышал, как его зовет Вельт, но среагировал не сразу. Эхо ликующих голосов еще никогда не звучало в его голове так отчетливо, как сейчас, когда он окончательно погрузился в мысли о Дикой яме.
– Горс?
– Что?! – Горсинг сдержал раздражение, но все равно отозвался слишком громко.
– Твоя рука.
– Что…
Горсинг только сейчас заметил, как его побледневшая, стянутая сухостью кисть упирается в скамью – пальцы неестественно прогнулись и почти дотягивались до запястья с тыльной стороны. Горсинг вскочил. Эхо голосов мгновенно стихло. Рассеянность и уныние сменила злость.
– Говорят, в Вепрогоне все так же начиналось. – Вельт с подозрением поглядывал на свои руки. – Люди теряли контроль над телом. А потом убивали себя.
– Не люди. Черноиты.
– И то правда…
Горсинг сжал кулаки, отчего костяшки на пальцах окончательно побелели. Вельт, конечно, был прав – нет ничего хуже, чем просто сидеть на месте и ждать. Идея с западней ему сразу не понравилась, еще до того, как магульдинцы привязали Аюна к колонне.