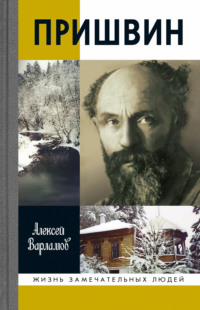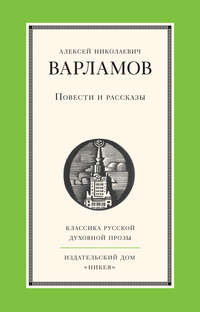Полная версия
Одсун. Роман без границ
– Это не общество потребления, это общество суперпотребления, – проворчал он, обдавая меня зловонным дыханием, и стал рассказывать, как ходил в «Березку» покупать сувениры и как его там ободрали, потому что иностранец.
Как липку, хотел тупо сострить я, но у меня не хватало знаний, чтобы перевести для него нехитрую игру слов. К тому же я не был уверен, что правильно его понял, ибо внучка испанской эмигрантки из Сантандера Елена Эммануиловна Винсенс учила нас в университете благородному кастильскому наречию с выговариванием всех положенных звуков, дифтонгов и согласованием времен, а у Фернандеса в его гнилом рту была каша и грамматика в принципе отсутствовала. С мальчишками было чуть полегче: корь к ним, по счастью, не пристала, сами они оказались очень сообразительными, быстро освоились в отряде, объяснялись с вожатыми и другими детьми жестами, потом скоренько освоили языковой минимум, вплоть до площадных слов, и я им, в сущности, был не нужен.
Несколько дней я вообще не понимал, что от меня требуется и зачем сюда привезли. Я был второй раз в жизни в пионерском лагере, но от первого осталось такое отвратительное воспоминание, что и теперь я с ужасом и состраданием смотрел на детей, которые ходили в одинаковой форме, жили по распорядку, играли в вышибалы, отправлялись после обеда спать, это называлось у них «абсолют», и пели хором «Вместе весело шагать по просторам». Однако оглядевшись, я понял, в какую лафу попал сам.
Переводчики в лагере жили вольготно, просыпались, завтракали, обедали и ужинали, когда хотели, днем писали пулю, а после отбоя собирались в беседке, пили крымское вино, слушали музыку, танцевали или шли на берег, разжигали костер, варили мидий и рапанов, купались в чем мать родила, а потом делились на парочки, причем всякий раз новые. Это было похоже на игру «Ручеёк», нравы были вольные и незамысловатые, никто никому ничего не обещал, но Зина мне как ведьма наколдовала. Меня здесь не принимали, как когда-то в нашу компанию мы не принимали Петю. Точнее, принимали, но с насмешкой. Я был всех моложе, а выглядел и вовсе ребенком, так что вожатые удивленно на меня смотрели, когда я попадался им после отбоя: из какого отряда и почему не в форме и не в постели?
Я страдал по всем пунктам. Милосердный столичный народ, старшекурсники и аспиранты из иняза и МГИМО, владеющие разными языками от хинди до иврита, надо мною cтебались, как издевались мы опять же над бедняжкой Петей. А та, на которую я смотрел больше других (она работала с югославами и держалась крайне надменно), исчезала в ночи с кем угодно, только не со мной. Чем меланхоличней я на нее таращился и пытался смешно ухаживать, тем откровенней, назло она меня отталкивала. А потом закрутила роман с моим героическим партизаном, причем, поскольку испанского Даша не ведала, Хосе Фернандес потребовал, чтобы я до определенного момента переводил, после чего по его знаку проваливал. Не знаю, как она терпела его бойцовские ароматы и чем он запудрил ей мозги, но я был в бешенстве и печали, бродил вдоль моря, швырял камешки, искал куриных богов, ловил скорпионов, таращился на звезды, рифмовал море и горе и однажды услышал, как на лавочке кто-то плачет. Тихо, безутешно, всхлипывая и глотая слезы.
Сначала я даже не понял, кто это – мальчик или девочка. Коротко стриженные волосы, белая рубашка, выделявшаяся на черном фоне, – ребенок, подросток, чадо. Только довольно полное. Я подошел ближе.
– Ты что здесь делаешь? Почему не спишь? – я попытался придать строгости своему голосу, и тогда – матушка Анна, спасибо, что вы пришли! – пухлое дитя заплакало еще сильнее, как если бы мое присутствие освободило его от необходимости таиться.
Пепито ест огурцы
Это была девочка лет двенадцати или тринадцати, пионерка даже не старшего, а среднего отряда. Признаться, я испугался и хотел поскорей уйти – а если нас вдруг увидят, то что подумают? – но она вцепилась в меня и не отпускала.
– Они не хотят со мной дружить, – прорыдала девочка.
– Кто?
– Дети.
– Почему?
– Говорят, что я заразная.
– Чем ты заразная? Что за глупости, тут всех проверяют, – возразил я, а сам подумал, что над ней смеются из-за бочкообразной фигуры и тебе надо просто поменьше, дитятко, кушать.
И она как будто это поняла и посмотрела на меня с укором – во всяком случае так мне почудилось в той зыбкой крымской тьме.
– Они говорят, что я радиоактивная.
– Какая? – я вытаращил глаза, среагировав сначала на слово «активная», ибо с детства терпеть не мог пионерских активистов.
– Я из Припяти, – всхлипнула толстушка.
Я вздрогнул. Это было лето восемьдесят шестого года. О чернобыльской катастрофе говорили постоянно, боялись страшно, проверяли щитовидку, мазали себя йодом и пили красное вино, но впервые я увидел человека оттуда. Она была беженка, отец Иржи, как и я теперь, и что-то заискрилось между нами, что-то похожее на человеческую солидарность. И мой голос, и мое перехваченное сочувствием горло, и мурашки на коже – все это побежало от меня к ней как электрический ток. А девочку прорвало, она стала рассказывать, как они хорошо, как весело в этой Припяти жили, а потом все разом кончилось, и воскресным утром – замечу при этом, матушка Анна, что авария случилась в ночь на субботу и весь жаркий субботний день дети ходили в школу и играли на улице, – и только в воскресенье всех жителей собрали во дворе, велели взять с собой документы и запас продуктов на три дня и садиться в автобусы. Они уезжали, уверенные, что вернутся домой очень скоро.
Тут девочка опять разрыдалась и плакала очень долго. Внизу плескалось море, далеко на берегу развели костер мои старшие друзья и варили мидий, а я должен был утирать слезы несчастной девчонке, у которой в квартире навсегда остался кот Снежок, и этот кот якобы уже за три дня до аварии вел себя очень необычайно и бросался на стены, а до этого был такой ласковый и послушный…
– Нас привезли в Фастов, и там мальчишки орали, чтоб мы убирались вон и швыряли камни в автобус. Милиция смотрела и не вмешивалась. А потом нас всех отправили в больницу на осмотр. Сначала мы долго ждали, а когда я зашла в кабинет, то врачиха в маске старалась от меня подальше держаться, будто я крыса какая-то. И вообще они там все злые были. А одежду нашу всю забрали, выдали ужасные пижамы и волосы состригли. А у меня волосы были густые, длинные.
Я достал сигарету и закурил.
– А мне можно? – попросила она.
– Маленькая еще.
– Я уже пробовала.
Я обнял ее, и она затихла, согрелась под моей рукой. Так мы сидели не знаю сколько времени. Ночь была хорошая, пряная, южная; в третьем часу костер погас и над морем встала ущербная луна.
«А вдруг она действительно заразная?» – мелькнула в голове подлая мысль, но я еще крепче прижал ее к себе.
– А какой у нас был город, какая школа… Я до сих пор поверить не могу, что туда не вернусь. А они стали говорить, что все правильно, вот мы так хорошо жили, все у нас было, а теперь пусть мы поживем плохо, потому что это справедливо.
Она подняла на меня глаза, они были огромные, влажные, взрослые и блестели в темноте, и в них отражалось море со звездами:
– А вы тоже так считаете?
– Нет. И ничего не бойся. Я с этими козлами поговорю.
– Нет, не надо. Не выдавайте меня, не надо, пожалуйста, ни с кем ни о чем говорить. Обещаете? Лучше научите меня испанскому.
Я растерялся.
– Как же я тебя научу за пять минут?
– Ну какое-нибудь предложение.
И тогда я сказал фразу, которой нас научила прекрасная Елена, когда мы отрабатывали на фонетике звук [p]:
– Pepito come los pepinos.
Девочка несколько раз повторила ее.
– Ну всё, я пойду, вы только не выдавайте меня, пожалуйста.
Она порывисто, очень порывисто для своей тучности вскочила и исчезла в ночи, а мне сделалось ужасно грустно, и собственная печаль показалась такой мелкой, незначительной… Я пытался в оставшиеся несколько дней найти эту девочку среди сверстниц, но все они были такие похожие в этих синих шортах и белых блузках, и крупных, рано созревших среди них тоже было немало, – в ответ на мои взгляды отроковицы либо смущались, либо начинали глупо хихикать, а спрашивать у вожатых, кто там из Припяти, я не стал: в конце концов, я дал ей слово. Но не забывал про нее, и когда смотрел по телевизору или читал в газетах про Чернобыль, то вспоминал девочку, ни чьего имени не знал, ни лица толком не разглядел – только помнил голос, недетские глаза и тихий сдавленный плач.
И вот теперь она стояла передо мной. Или не так. Передо мной стояла, матушка Анна, необыкновенно красивая, стройная девушка с длинными, густыми каштановыми волосами и очень живым, полным прелести открытым лицом. Она была ужасно похожа и не похожа на рыдающую в Артеке толстушку, и я еще не знал, как окажется переплетена с ней моя жизнь, но знал, что ничего более прекрасного и значительного в этой жизни уже не будет.
Одиннадцать одиннадцать
Конечно, это я сейчас для красивости так говорю, ни о чем таком я в ту пору не думал. Просто жил себе и жил. Но ни на какие Фили я, разумеется, не поехал, и мы пошли с этой чудной девочкой мимо главного здания гулять по Воробьевым горам, спустились к реке, и я важничал, как если бы университетские угодья принадлежали лично мне, как маркизу Карабасу. Я правда очень любил эту местность, старался произвести на девушку впечатление и чувствовал, что мне удается. Не помню уже точно, что я ей тогда рассказывал, но у всякого человека в запасе много историй, которые можно рассказать, а особенно когда тебя слушают так внимательно, упоенно, как слушала меня она и не слушал прежде никто другой.
Да, представьте себе, дорогие мои, хотя вам и трудно в это поверить, но мне почти никогда не давали в нашей компании голоса. Считали человеком неразговорчивым, неинтересным, да, наверное, я таким и был, но иногда мне очень хотелось поговорить, рассказать, найти того, кто станет тебя слушать и простит, если ты говоришь нескладно, коряво, путано, повторяясь, но зато искренне, от сердца. А Катя не верила, что все происходит наяву и она гуляет по Москве с большим мальчиком, о котором мечтала все эти годы.
Это могло показаться и до сих пор кажется мне странным, но впоследствии Катерина рассказывала, что я даже не представлял себе, как много значил для нее тот разговор на берегу моря, как он поддерживал ее, когда они поселились в Белой Церкви, где на приезжих смотрели косо, ибо квартиры, которые им дали, предназначались людям, давно ожидавшим своей очереди на жилье. И эта враждебность, злость, жестокость, оскорбления, каких, может, в действительности было не так уж и много, – все умножалось в ее голове. Новая школа, одиночество, отчаяние, да и люди были там по характеру совсем другие, чем в Припяти, – а потом еще умер от лейкоза, а на самом деле от горя и несправедливых обвинений ее отец, – все это она пережила лишь потому, что запаслась крымским воспоминанием и оно ее поддерживало, спасало, превращаясь в яростную мечту о нашей встрече.
– Когда мне бывало очень одиноко, я все время повторяла то по-русски, то по-испански: Пепито ест огурцы, Пепито ест огурцы. И представляла тебя.
Признаюсь, я засомневался и подумал, что если живешь такой воображаемой влюбленностью, то можешь очень сильно разочароваться, увидев предмет своего обожания наяву. Но, должно быть, у девочек это происходит иначе или же Катя моя была исключением. А может быть, я был в ту пору не так уж и плох, не знаю, но впервые в жизни я шел с девушкой, не испытывая неловкости, не думая о том, что я непривлекателен внешне, и одет бедновато, и неостроумен, и не обаятелен. Я про все про это забыл.
Мы протопали черт знает сколько километров по набережной Москвы-реки до Парка культуры и дальше через мое любимое пустынное Остожье с его выселенными домами и заброшенными неряшливыми особнячками, мимо бассейна «Москва» – его тогда еще не закрыли – к Кремлю и Красной площади и дальше через Зарядье в сторону Ивановской горки. Стало совсем темно, но мне не хотелось с Катей расставаться и нравилось, что она по-прежнему смотрит на меня с восхищением и я не кажусь ей смешным, глупым, инфантильным, в чем щедро обвиняла меня аспирантка Валя Макарова, с которой мы иногда встречались у нее дома, когда Валины родители куда-нибудь сваливали.
– А если ты настоящий мужик и хочешь чаще, сними квартиру, – внушала мне аспирантка.
Но хорошо ей было так говорить…
– У тебя болезнь века – недорослизм, – ставила она мне диагноз, перед тем как перейти к заключительной части нашего свидания, а я возражал, что мне не нравится это слово.
– Оно плохо состыковано. Корень русский, суффикс иностранный.
Валечка считала себя знатоком русского языка и оттого раздражалась и оскорбляла меня еще пуще, отчего я и дальше чувствовал себя не вполне уверенно. И как же хорошо мне было теперь, когда я болтал всякую чепуху и не думал о своей инфантильности.
Стрелка на моих внутренних часах приблизилась к половине первого, и пришло время прощаться с девочкой из Чернобыля, а прощаться ну совсем не хотелось, и тогда я сказал:
– А поехали, пока метро не закрылось, на Фили. Народ там до утра гудеть будет, – и представил себе, как мы приезжаем с ней на Новозаводскую, и как на нас посмотрят, и все станут мне завидовать, а наши спесивые девки утрутся, но она покачала головой.
– Да не бойся ты, они классные ребята, поедим там чего-нибудь, вина попьем. Ты же голодная, – вспомнил я, потому что и сам почувствовал голод.
– Нет, – и помню, как меня удивила твердость ее возражения.
– Тогда… – я закрутил головой по сторонам и выпалил: – А давай тогда – в Купавну!
Она не стала спрашивать, ни что это такое, ни где находится, ни сколько и на чем туда ехать и кто там живет. Она как будто только и ждала того волшебного слова.
Курский вокзал был совсем недалеко, Катя успела позвонить тетке, сказать, что домой не придет, и быстро-быстро повесить трубку, и мы побежали на последнюю захаровскую электричку, которая уходила ровно в час ночи. В вагоне, кроме нас, никого не было, мы молчали, потому что обоим вдруг стало понятно, что мы перешли черту, за которую уже нельзя вернуться, и, согласившись поехать с полузнакомым парнем к нему на дачу, она лишала себя возможности отступить, а я брал на себя ответственность за ее согласие. И когда мы вышли на пустую, еле освещенную платформу и зашагали по дороге моего детства мимо круглой станционной пивнухи вдоль однопутной железной дороги, мимо участков Минвуза, ЗИЛа, общества слепых, химиков и энергетиков, вдоль березовых холмов у дач имени 800-летия Москвы, когда шли краем прокурорского поля, не касаясь друг друга, по всему этому темному, моему родному, теплому, гулкому пространству, где я нашел бы дорогу с завязанными глазами, то ни о чем не говорили.
Я никогда не забуду, матушка Анна, ту ночь. Она была облачной, беззвездной и какой-то особенно густой, будто не конец светлого июня, но август стоял на земле и кто-то задвинул над нами полог, чтобы тьма длилась дольше положенного.
В дачном домике было тепло и тихо. Пахло сухим деревом, мотыльками и старыми газетами. Я включил свет на террасе, несколько бабочек и малярийный комар забились в стекла и внутри абажура. Мы были страшно голодны, но, к счастью, в шкафчике нашлись сухари, а в подполе консервы и прошлогоднее сладкое вино из черноплодки и малины, которое делал дядюшка. Я нарвал в ночи зелени, лука, первых огурцов и последней редиски, Катя пожарила на сковородке тушенку, а после легла со мной так просто, как если бы мы были мужем и женой. И все, что произошло между нами на кровати, где я засыпал ребенком, где просыпался и звал бабушку, когда мне становилось страшно, где я взрослел и мне начали сниться стыдные сны, – все было невыразимо трогательно и, странным образом, бестелесно. Телесность, чувственность пришли позднее, а тогда мы просто понемногу узнавали друг друга.
Да, матушка, не знаю, как у вас, а у нас в те времена завоевать любовь девушки, добиться близости с ней было не так уж просто, здесь требовалось время, терпение, уважение, и каждая девушка сама для себя определяла, когда это может произойти. Тогда у девочек еще были – не знаю, как это правильнее сказать, – понятия о чести или предрассудки, но мало кто рискнул бы согласиться на такое на первом свидании, а тем более если это случается с тобой в первый раз. И то, что Катя с такой легкостью, ни в чем не сомневаясь, мне доверилась, показалось мне невероятным даром, чудом. А может быть, ничего странного здесь и не было – ведь она ждала этой ночи четыре года, и я уж точно не был для нее случайным человеком. Но только и у меня, отец Иржи, тоже было ощущение, что со мной все произошло впервые, а если что-то и бывало раньше, то лишь для того, чтобы я не тыкался, как слепой котенок.
Утром я проснулся поздно, когда солнце на стене моей комнаты показывало одиннадцать часов одиннадцать минут. В доме было тихо, и никого не было рядом со мной. Я испугался, что случившееся ночью было лишь сонным видением, вскочил и в одних трусах выбежал в сад. Стояло нежаркое позднее утро, посреди огорода, опершись на лопату, возвышался мой дядюшка, приехавший из Москвы на последней электричке перед дневным перерывом, и что-то оживленно Кате рассказывал. Давно я не видел его таким довольным. А она сидела на корточках в моей клетчатой дачной рубашке, быстрыми ловкими пальцами прореживала морковку и смеялась. Она была настоящая хохлушка. Надеюсь, это звучит не обидно?
Неразумные
Матушка что-то быстро спрашивает у мужа, тот так же быстро отвечает, и на этот раз я не понимаю ни слова. Но похоже, это связано с возможными сельскохозяйственными работами на их участке. Что-то вроде того, где бы им найти такую же расторопную трудолюбивую украинку, потому что от этого бездельника толку все равно никакого. В душе я с ней соглашаюсь, но, поднимаясь к себе наверх, думаю о том, что хотя бы чуть-чуть загладил вину и заработал себе, как Шахерезада, право находиться здесь еще одну ночь. Смотреть дальше я боюсь. Я всегда жил, ни на что не рассчитывая и не думая о будущем. По-английски это звучит очень коротко: save tomorrow for tomorrow. Во всяком случае именно так пели в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда», которую в школьные годы я слушал часами. По-русски выходит длиннее: не заботьтесь о дне завтрашнем, ибо завтрашний день сам о себе позаботится. Но, правда, и деньги, и карьера, и успех – всё это были для меня бранные слова, и, может быть, поэтому я оказался никому не нужен в родной стране в ее другие времена, как не нужен никому сегодня в чужой.
А впрочем, в моем нынешнем убогом и непрочном существовании всё не так уж и плохо, одно только меня огорчает: здесь нет книг на русском языке. То есть, может быть, где-то – в библиотеке или в местной школе – они и есть, но идти мне туда ни к чему, а в доме у священника ни одной. В гостиной, правда, стоит книжный шкаф. Половина его открыта, а вторая закрыта на ключ. Что там находится, не знаю, но в открытой части чешские книги, и я страшно скучаю по нашему круглому шрифту, по милой моей кириллице. Ей-богу, впору начать писать лишь для того, чтобы было что читать.
Чтение для меня с детства занятие физиологическое, я не могу даже спокойно есть, когда у меня перед глазами нет написанных слов. Говорят, это вредная привычка, а я без книги скучаю, томлюсь, злюсь. Как можно заснуть, не прочитав что-нибудь на ночь? Или, наоборот, не взять книгу, среди ночи проснувшись? И оттого теперь мне так неуютно, тоскливо, пусто. Наверное, надо было бы взяться за изучение чешского языка, но я чувствую, что это мне уже не по силам. Языки надо учить в юности.
Единственная кириллическая книга, которая мне в этом доме доступна, – Библия. Она, правда, на старославянском, по которому, как и по латыни, у меня был в универе твердый неуд, и только снисходительное отношение добрейшей Марины Максимовны к дубовой роще превратило его в неверный уд, но все же читать Евангелие я могу, и странное чувство вызывает у меня эта книга. Я прочитал ее впервые очень поздно, когда уже учился в университете. До этого только мечтал, как о какой-нибудь «Лолите», но даже ту найти было проще. Библия несла печать запрета, о ее содержании я мог лишь гадать, и кто такие Христос, Пилат, Иуда, Мария Магдалина и апостолы узнавал из той же рок-оперы. Но когда с сигаретой во рту я впервые прочитал Евангелие, оно меня поразило. Триллер, драма, психологический детектив. Теперь мне стыдно про эту сигарету вспоминать, и едва ли я признаюсь в ней отцу Иржи, однако, когда я перечитываю знакомые сюжеты, мне хочется не то чтобы с ними спорить, а тянет задавать вопросы.
Вот, например, притча о блудном сыне. Меня всегда задевала в той истории участь старшего сына. Мне его почему-то ужасно жалко. Хотя по своей судьбе и по грустным итогам моего полувека я куда больше похожу на его непутевого младшего брата, я все равно хорошо понимаю обиду первенца, которая и в самом Евангелии высказана очень отчетливо и даже нарочито, намеренно подчеркнута. Так что, строго говоря, это притча не о блудном сыне, но о сыновьях и братьях вообще.
Старший ведь и вправду очень и очень обижен на своего отца. И это справедливая обида. В самом деле, если много лет он усердно служил отцу и ни в чем не смел ослушаться, то почему не заработал даже малейшей похвалы и награды? Или это, как и многое в Новом Завете, скрытая полемика с Ветхим, с книжниками и фарисеями, которые не такие, как этот мытарь? Но ведь, кстати, и с фарисеем всё не так однозначно, как кажется. Все привыкли порицать его за то, что он похваляется своими добродетелями, но пусть критики скажут, постятся ли они столько же, сколько он, сохраняют ли целомудрие, наконец, приносят ли каждый месяц в храм десятую часть своей зарплаты? Я таковых не знаю. Да и в Евангелии разве фарисей осуждается? Там сказано лишь то, что он выйдет менее оправданным, нежели мытарь. Менее оправданным, но вовсе не осужденным, и то лишь потому, что поступки фарисея ожидаемы, а мытаря нет. Но это хорошо один раз прийти в храм и покаяться, а дальше что с мытарем будет? Опять станет грешить, обирать простой народ и бить кулаком себя в грудь, какой я сякой? Или сам превратится через год в фарисея?
Мне нравится размышлять на эти темы. Возможно, потому, что Евангелие так устроено: в нем грешник всегда лучше праведника, блудница – тех, кто ее побивает, самаритянка – иудеев, заблудшая овца – овец послушных; даже закатившаяся монетка сто́ит вопреки всем законам арифметики дороже девяноста девяти. По сути, это бунтарская, мятежная, революционная книга. За исключением одной истории – притчи о мудрых и неразумных девах. Я ее не понимаю. Вернее, даже не так – я ее не принимаю. В самом деле, так ли уж велик проступок пятерых девушек, у которых не оказалось масла, чтобы навсегда оставить их за дверью брачного пира? И разве их боголюбивые сестры не могли с ними поделиться? Ведь нас с детства учили: надо делиться с другими тем, что у тебя есть. Неужели бережливость мудрых не противоречит евангельской заповеди о любви к ближнему?
О да, конечно, на эту притчу наверняка есть толкование и под девами надо разуметь то-то и то-то, а под маслом что-то еще, но я так устроен, что понимаю все буквально: девчонки, вам правда жалко было масла для своих подруг? Или вы не догадывались, чем они рискуют, уходя в ночь? Как вы могли их отпустить и неужели будете с чистым сердцем ликовать и праздновать на пиру с женихом, зная, что из-за вашей скупости – ну хорошо, пускай осмотрительности и мудрости – кто-то остался в беде? Да лучше бы вам всем этого масла не хватило! И я вам больше, девочки, скажу: если бы вы, мудрые, попали в беду, то те, глупые, вам бы помогли, не оттолкнули, потому что они грешнее, а значит, и добрее вас.
Зато история с благоразумным разбойником трогательная до слез и ужасно достоверная. Есть какие-то штрихи, детали, когда вдруг начинаешь понимать: такое невозможно выдумать и это было на самом деле. Разбойник ведь не просит у Спасителя взять его в Царствие Небесное, он даже не дерзает помыслить о таком, ибо руки у него в крови и он за дело распят на кресте. Он просит о самом малом. Ты вспомни меня, пожалуйста, когда придешь в Свое Царство. Только вспомни. И больше ничего. И за это смирение, за это малое получает большое. Но почему, если прощаются мытари, блудницы и разбойники, нет прощения пяти девушкам, вся вина которых состоит лишь в том, что у них не оказалось масла, что бы под ним ни подразумевалось?
Эти вещи меня волнуют, я верую в них, как умею, а еще мне нравится ход службы; я иногда прихожу к отцу Иржи по будним дням, когда в храме никого нет и только зеленая лягушка прискакивает из ручья, садится на пороге, но не решается его пересечь. Я стою позади и пытаюсь разобраться в том, что в храме происходит, повторяю знакомые слова, но если бы меня спросили, чего же я тогда мешкаю, почему тоже не переступаю порог и не примыкаю к верным, то я бы ответил так: мне еще рано и я жду более позднего часа. Да, конечно, тут есть риск не успеть, никто не знает, когда за тобой придут и похитят, но ведь у меня есть дар чувствовать время, и вместе с тем я думаю о работниках первого часа, которым выпало перенести полуденный зной. А что, если у кого-то из них не хватило сил и он упал на меже? Или не выдержал и ушел в тень? Усомнился, заболел да и сбежал с этого поля? Не лучше ли в таком случае заранее обождать и устроиться на работу позднее? В сущности, это та же расчетливость, что и у благоразумных дев. Или же я опять занимаюсь самокопанием и самооправданием?