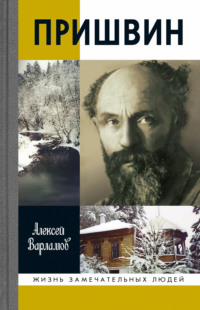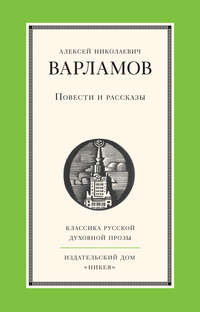Полная версия
Одсун. Роман без границ

Алексей Николаевич Варламов
Одсун. Роман без границ
© Варламов А.Н.
© ООО «Издательство АСТ»
Часть первая. Купавна
Почему они не зажигают камин?
Половина пятого пополудни. Или без двадцати пяти. Вряд ли больше. Телефон мой разрядился, но я с детства чувствую время, словно бежит в груди по кругу секундная стрелка. То ускоряется, то замедляется, иногда щекотно, а иногда так больно, что хочется ее остановить. Я смотрю на человека в белой жилетке на искусственном меху напротив меня и пытаюсь понять, где мог видеть его раньше. У него невыразительное, под стать худощавой фигуре тонкое лицо, небольшой гладкий лоб, острый нос, блеклые голубые глаза, жесткие усики над вздернутой губой, редкие русые волосы, бороды нет. Не хочет отращивать или не растет? Он похож на преподавателя без степени, на старшего редактора или экономиста, но только не на священника. Однако зовут его отец Иржи, и он православный поп. Страна католическая, а он православный. Не с рождения, просто перешел несколько лет назад в нашу веру и принял сан, или как это правильно у попов называется. Вообще-то он должен прозываться в таком случае Георгий, но все обращаются к нему отец Иржи. Русского языка не знает. Речь понимает, а говорить не может. Учил когда-то в школе, потом позабыл или делает вид, что позабыл. Здесь многие забыли русский. И русских не любят. Про попа, правда, не знаю, кого он любит, а кого нет. Знаю только, что рядом с его домом есть церковь очень странной формы. Она сделана наполовину из стекла и похожа на пирамиду или, точнее, на чум, я видел такие месяц тому назад на Ямале. Только на верхушке у этого чума крест. Когда идет дождь, вода стекает по толстым прозрачным стенам. Внутри всё, как и положено в церкви: алтарь, иконостас, подсвечники, – но ощущение такое, будто ты не в храме, а в аквариуме. Или, наоборот, вдруг кажется, что там, за этими толстыми стенами, наступил всемирный потоп и стеклянная пирамидка что-то вроде ковчега спасения или подводного жилища, как в «Маракотовой бездне» у Конан Дойла, – мы в детстве смотрели с Петькой такой диафильм. Еще я знаю, что деньги на храм дал богатый человек, не захотевший себя называть. Это странно, ведь, по моим представлениям, все нынешние жертвователи и благотворители только и ждут, чтобы их имя было начертано золотом на самом видном месте. А этот таится. Не иначе бандит какой, по которому тюрьма плачет.
Рядом с храмом колокольня, но колокола на ней нет. Впечатление такое, что колокольню построили раньше и предназначалась она для других целей.
А дом у священника самый обыкновенный, добротный, только изрядно обветшавший. В таких домах веками жили немцы, покуда их отсюда не выселили. Мне этих немцев жаль. По идее, я не должен испытывать к ним сочувствия, тем более что это из-за них случился Мюнхенский сговор, про который в последнее время стали много писать, но я им сочувствую. Представляю, как они боялись окончания войны, как покидали целыми семьями свои усадьбы, церкви, оставляли погосты, а на их место привозили других людей.
Однако поп тут ни при чем. Он поселился в деревне не так давно, а до этого усадьба много лет пустовала.
Ее прежний хозяин был судьей. Когда в сорок пятом его пришли выселять, он поднялся на чердак и повесился, а потом стал являться каждому, кто пытался в этом доме жить. Но попа, судя по всему, забоялся. Или же поп не боится ничего.
Я узнал обо всем этом от древнего грека, с которым познакомился в местном трактире «У зеленой жабы», когда искал работу.
– Какую угодно. Мыть посуду, колоть дрова, таскать воду, убираться.
Барную стойку окружали смешные стулья: на спинке каждого было вырезано чье-то лицо, – старые балки были покрашены бычьей кровью, а на стенах висели чучела, шкуры и головы убитых зверей.
– Денег мне не надо. За крышу над головой и еду.
– Без поволенья на побыт не можно, – не согласился Одиссей.
Это я и так знал, но что поделать, если меня обманули и не выполнили того, что обещали.
– Я экстраординарный профессор в университете Палацкого в Оломоуце, – сказал я неубедительно, но с достоинством. – Приехал читать лекции по истории постсоветского постмодернизма. У меня есть приглашение, диплом Московского университета и два рекомендательных письма.
Я произносил эти важные слова, понимая, что человек, который согласен возить грязь в «Зеленой жабе», вряд ли может быть экстраординарным профессором, да и вид у меня далеко не академический.
– Это никому не интересно, – грек даже не поглядел на мои бумаги. – А поп, если захочет, поможет.
Зачем он станет мне помогать, если никакого отношения к церкви я не имею?
– То не есть важно, – возразил Улисс, наливая пиво кому-то, чье широкое одутловатое лицо с богатыми усами напоминало деревянную рожицу на спинке стула. – В этой стране никто отношения к церкви не имеет. Чехи – самая безрелигиозная нация в Европе, – добавил он со значительностью, и я не понял, чего больше прозвучало в его голосе – гордости или сожаления.
Интересно, откуда посреди сухопутной Чехии взялся грек и сам он кто: православный, католик, атеист, агностик? Но спрашивать об этом точно не принято, и мне ничего другого не оставалось, как пойти к священнику. Полиция меня уже ищет. Хозяйка словацкой гостиницы видела мой паспорт и наверняка обо мне сообщила. Я не беженец, я – беглец с просроченной визой, но ни тех, ни других здесь не жалуют. В лучшем случае меня оштрафуют, в худшем – и это более вероятно – депортируют в страну, из которой я сюда прибыл и где живет моя вечная возлюбленная, но моя любовь к ней безответна, гибельна и безрассудна. Вот почему я сижу в доме, где нельзя говорить о веревке, смотрю на подозрительного попа, на его постную физиономию и размышляю: стукнет он на меня сразу же или позднее.
Но пока что хозяин, видимо убедившись, что я не собираюсь никуда уходить, предлагает не то пообедать, не то поужинать. Это очень кстати. Не помню, когда я последний раз нормально ел. Или он хочет меня отравить? Что-то я сделался мнителен в последнее время. И все же отравить – это чересчур. Проще выставить за дверь. Однако поп снисходит, смиряется, трапезничает вместе со мной и только что не омывает моих ног – видимо, его милосердие состоит в том, чтобы выгнать странника, предварительно его накормив. Правда, одна заминка все же случается. Я уже было набрасываюсь на еду, как вдруг он встает, поворачивается к иконе и принимается читать молитву. Я к такому не привык, мне еще более неловко, но откладываю ложку, тоже встаю и неумело повторяю за ним движение правой рукой от лба к животу и дальше к плечам, хотя это полная глупость. Особенно если учесть, что я не крещен.
Еду нам приносит попадья. Очень миловидная, ухоженная женщина, намного моложе мужа. Похоже, столичная штучка, которую запихнули в силезскую глухомань на границе с Польшей. На лице у нее страдальческое выражение. К ней-то судья точно является и стоит за спиной всякий раз, когда она моет старинную посуду и ставит ее в дубовый буфет XVI века.
Скорее всего, это из-за жены Иржи сделался православным. Почувствовал, наверное, какой-то зов, призвание стать священником, но у католиков не получилось бы с семьей жить. А без семьи тоскливо, если ты не монах. Или всякие непотребства начинаются. В этом смысле я папистов совсем не понимаю, хотя сам живу один десять лет и когда был последний раз с женщиной, не вспомню. Но что за мысли, однако, лезут в голову? Не по чину и неблагодарно. А матушка тем временем подносит новые блюда, и я ощущаю себя кем-то вроде автомобиля, который заправляют дорогим бензином, перед тем как он снова рванет в дорогу. Только вот дороги впереди нет и колеса проколоты… Красивая попадья взирает на меня безо всякого энтузиазма, и сумрачный взгляд ее темных, глубоких глаз понятен без слов: ешь скорее и убирайся, тут тебе не ресторация и не пансион. Но на улице в этот час так погано, а в комнате уютно и на столе все такое вкусное, домашнее… Не хватает лишь рюмочки, а еще лучше – запотевшего графинчика. Но я стесняюсь попросить отца Иржи, а сам он не догадывается. Мне бы действительно поскорее встать, сказать ему спасибо и уйти, пока он не попросил меня рассказать о себе, а я же не буду знать, что можно говорить, а чего нет. Да и зачем я стану втравливать в свои мутные обстоятельства неизвестного человека?
– Может быть, хотите пива, вина?
Он спрашивает это по-чешски, но я его понимаю. Этот вопрос я понял бы, кажется, и по-китайски.
– Вина.
– Какого?
– Красного.
– Франковка Модра вас устроит? Это хорошее, словацкое, – добавляет поп извиняющимся тоном.
– Давайте словацкое, – хотя от этого слова у меня неприятно схватывает в животе.
Уже почти семь. Без десяти или без двенадцати. Мне бы продержаться еще минут сорок пять. Пересаживаюсь в большое кресло возле камина, пью кислое – а каким еще оно тут может быть? – вино, глаза у меня слипаются, за окном смеркается, и слышно, как воет ветер, холодный, северный. Он гонит с далекого моря тяжелую, сырую тучу, которая приносит затяжной дождь, а я не знаю, с чего начать, и не понимаю, то ли в самом деле я рассказываю попу свой грустный травелог, то ли все это мне снится. Бутылка кончается быстро, поп открывает следующую, но сам не пьет, а за окном уже совсем темно, в окна хлещет дождь, переходящий сначала в мокрый снег, потом в мелкий лед, и я представляю огромный скандинавский циклон, который пересек Балтику и накрыл половину Европы, и благодарю за него Небеса. Полиция застряла в горах, во всем доме неожиданно выключается свет, матушка роняет непонятное мне слово «крконош» и обреченно приносит высокие белые свечи. На меня она больше не смотрит, а мне становится так хорошо, как не было давно. «Скоро начнется кино, и они меня не выгонят, – думаю я с благодарностью. – Если бы хотели выгнать, сделали бы это раньше. После восьми уже не выгонят, не посмеют. После восьми нельзя никого по закону выгонять. Как же здесь уютно! Если бы еще зажечь камин… Почему они не зажигают камин?»
Pozor, pes!
В Чьерне-над-Тисой меня никто не встречал. Накануне поздним вечером, когда я добрался до Чопа, маленький Юра написал, что меня сразу же отвезут в гостиницу, если только я сумею переехать границу, в чем он, правда, сомневается.
«Какого хрена ты вобще решил перться через киев делать теье боьше ничего ели тебя в чопе схвалят вытаскиваь никто не старет».
Я представил, как бы он орал в трубку, если бы это была не второпях набранная эсэмэска. Все-таки хорошо, что появился вид связи, при котором все эмоции по дороге стираются и отвечать можно не сразу.
«За что меня схвалят?»
«За яйца им ненужна при4ина посадят любого с руским паспортом и не вздумай никому звонит я сам должу ПТП».
Бедный, в детстве оглохший на одно ухо Юрик! Он даже не догадывался, до какой степени был прав. Я накуролесил в Киеве так, что меня должны были не то что экстрадировать, а продержать в эсбэушном зиндане до второго пришествия или до возвращения Крыма.
– Не говори гоп, пока не переехал Чоп, не говори гоп, пока не переехал Чоп, не говори гоп, гоп, гоп, – бормотал я, стоя в третьем часу тоскливой беззвездной мартовской ночи в небольшой очереди на украинском пункте пропуска. Однако, к моему удивлению, все прошло на редкость гладко. Одни меня без слов выпустили, другие равнодушно, ни о чем не спросив, впустили. Скорее всего, это случилось благодаря славянской нерасторопности. Катя оказалась права: ждали в Борисполе, на нашей или на белорусской границе, а про словацкую не подумали. Но я все равно опасался до последнего, покуда поезд из четырех вагончиков не тронулся, не переехал через Тису и вскоре не оказался на восточной окраине Евросоюза.
Пассажиры с баулами схлынули, и через минуту на заграничном перроне не осталось никого, кроме помятого, с отвратительным привкусом во рту и ночной одышкой пожилого облезлого мужика в серой куртке – именно так я выглядел со стороны. Было промозгло, ветрено, сыро, очень хотелось в туалет, но я боялся разминуться с теми, кто должен был меня встретить. Ушла электричка на Кошицу, утренняя мгла сменила ночную, и из этого марева вынырнули двое. Сунули мне под нос ксивы и жестами потребовали, чтобы я показал паспорт и открыл брезентовый рюкзачок, купленный в прошлом тысячелетии в еврейской лавке в Иерусалиме. Рюкзак был небольшой, но вместительный, прочный, и я таскал его с собой повсюду.
Вероятно, в моих грустных бессонных глазах было больше укоризны, чем кротости, потому что один из таможенников рявкнул:
– Сигареты? Сигареты колько маешь?
– Я не курю.
Они небрежно покопались в моих шмотках и неспешно двинулись в сторону подземного перехода. Что было делать дальше и куда ехать, я не знал. После пригородных электричек и местных поездов, на которых я двое суток окольными путями тащился сквозь ошалевшую Украину, здесь было тихо, сонно, и казалось, ничего не происходит. Чувство обиды постепенно улеглось, мгла окончательно рассеялась, стало еще холоднее и ветренее. Я вышел на привокзальную площадь, поглядел по сторонам и закурил.
Все это было очень странно. Я не мог ничего перепутать: городок, где Брежнев и Дубчек три дня сидели в местном Доме культуры железнодорожников и обсуждали, как правильно умыть человеческое лицо социализма. Брежнев уезжал ночевать домой, а Дубчек оставался. Это случилось в то лето, когда я родился, но у меня такое ощущение, что я помню недовольные, красные от водки физиономии своих дядьев, – они спорили о том, надо ли было вводить в Чехословакию войска.
Мимо снова прошагали служивые. К счастью, они не посмотрели в мою сторону, но я кожей ощутил опасность. Надо было сваливать отсюда, пока меня не решили проверить основательней. Я накинул рюкзак и поплелся по пустынным улочкам, мимо милых старинных домиков, четырехэтажных зданий советского покроя, островерхих церквей, которые сменились одноэтажными частными домами и палисадниками. За заборами яростно залаяли позорные псы, я пошел скорее и не заметил, как оказался в странном, неопрятном и очень бедном месте, каковое по эту сторону границы представлялось мне немыслимым. Лачуги, сараи, ветхие домишки и пятиэтажные здания наподобие наших хрущоб, только с выбитыми стеклами, но при этом усеянные телевизионными антеннами. По неприбранным, заваленным картонными коробками улицам ходили черноглазые красивые вольные люди разных возрастов, они фокусировали на мне чудные влажные взгляды, и я почувствовал себя толстым, неуклюжим зверьком. Ромы что-то радостно лопотали, их дети принялись хватать меня за руки, смуглая девочка с огромным животом преградила дорогу – я резко развернулся и побежал, будто мне снова девятнадцать лет и я не успеваю вскочить с байдаркой за спиной в общий вагон мурманского поезда на карельской станции Кяппесельга. Разве что теперь, тридцать лет спустя, подводило дыхание, но я все равно бежал, чувствуя, как колышется в такт бегу рюкзачок и мягко бьет меня по спине, и не слышал, как ревет за спиной и тормозит, скрипя всеми колодками, огромадный трейлер.
Где я мог ошибиться?
Сорок девять – это семь семерок. Я всегда считал семерками жизнь и особенно внимательно относился к тем годам в своей жизни, которые были числу семь кратны. Первая моя семерка была чудесна, вторая несколько хуже, третья так себе. Начиная с четвертой жизнь взметнулась, а потом все ухнуло куда-то вниз да так там и осталось. Но на сорок девять я себя все равно не ощущал. Лет накопил, а ума и денег нисколько. У Цветаевой, кажется, есть стишок про легкомыслие: «Милый грех, милый спутник и враг мой милый!» – так это всё про меня. И в сущности, именно легкомыслие и довело меня до состояния, в каком я теперь оказался. Плюс неумеренное любопытство. Два моих скользких конька.
Я таращился всю дорогу по сторонам, а подобравшая меня машина все ехала и ехала – мимо заснеженных гор, рек, ручьев, еще не вскрывшихся озер, черных елок, деревушек, одиноких домов, горнолыжных трасс, отелей, отреставрированных или полуразрушенных средневековых замков, и мне ужасно нравилась эта картина. Она была чем-то похожа на волшебную страну из сказки про девочку Элли. Водитель мой, к счастью, ни о чем не спрашивал. Ему было достаточно того, что он обругал меня на неизвестном наречии, а потом сжалился и увез от цыган. Кто он был по национальности, я не понял. Номера у трейлера значились испанские, но, когда я попробовал заговорить на языке этой страны, он отрицательно помотал головой. Может, каталонец был, а может, баск, однако мне так нравилась большая послушная машина и этот невозмутимый добрый человек, что я был готов ехать с ним куда угодно по гладкому дорожному покрытию сквозь земное пространство.
В половине первого я стал проваливаться в сон, но то и дело виновато просыпался: казалось нечестным спать, покуда человек слева от меня работает, да и сонливость – штука заразная, но он невозмутимо вел свой долгий вагон, каких на российских трассах я всегда боялся и закрывал глаза, когда друг мой Павлик лавировал меж ними на пятнистом армейском джипе. Однако тут все двигались мирно, никто не сигналил, без нужды не обгонял и не вылезал на левую полосу. Горы то отступали, то приступали к дороге, мы ныряли в туннели и выходили на поверхность, съезжали с больших дорог на второстепенные, забираясь все выше; я не знал, куда едет таинственный сепаратист и что везет, но вскоре наши пути сделались такими узкими и крутыми, что было непонятно, как может эта длинная неповоротливая машина вписаться в горный серпантин.
В четверть шестого пошел дождь, который сменился снегом. Фура ехала тяжело, но при этом очень уверенно, не буксуя на подъемах и плавно тормозя на спусках. Иногда навстречу попадались автобусы или другие фуры, и тогда оба водителя останавливались и, как в сложнейшей хирургической операции, проплывали буквально в сантиметрах друг от друга. Несколько раз мы зависали над пропастью, фура замирала, и я прощался с жизнью, однако баск был невозмутим. Ни тени волнения или довольства собой не было на его сосредоточенном, уверенном лице, когда ему удавалось, никого не задев, пройти очередной крутой поворот. Наконец мы взгромоздились на заснеженный перевал, спустились на несколько витков и остановилась возле харчевни с гостиничкой на втором этаже. Она называлась «У мамы» и смотрела на дорогу смешной вывеской:
Добре пивечко, добре винечко, добре едло.
Водитель остался ночевать в машине, а я пошел в отель, плача от умиления и восторга. Была пора равноденствия, но весна здесь запаздывала, пахло сырой хвоей, талым снегом, пели птицы в лесу, и мне почудилось то сонное умиротворение, каковое давно искала моя измученная душа. Я стал напевать про себя песню, под которую мы обнимали своих подружек в медленном танце в стройотряде в степи под Целиноградом, а над нами светили близкие яркие звезды и падала за горизонт полная луна в те ночи, когда на Байконуре запускали космические корабли. И хотя пожилая словачка, встретившая меня на первом этаже, была так же похожа на калифорнийскую деву, как и я на одинокого странника на темном пустынном шоссе, номер «У мамы» был чистый, просторный, окна смотрели на церковь с высоким шпилем и небольшую площадь, постель была широкая, мягкая, с зеркалом на потолке и большой ванной прямо посреди жилой комнаты – вероятно, апартамент предназначался для любовных пар. Я грустно вздохнул и тотчас провалился в сон, как в обморок, и – редкий случай – спал без сновидений, хотя иногда мне слышались сквозь тяжкую дрему детские голоса.
Когда я вывалился обратно в действительность, над горами поднялось солнце, было тихо-тихо, а трейлера с его безмолвным вагоновожатым уже и след простыл.
Одиннадцать одиннадцать. Черт возьми! Я должен был ехать с баском дальше, я просил накануне хозяйку, чтобы она меня разбудила, и не виноват, что проспал. Какого черта? Торопливо сбежал вниз и увидел светлую террасу, на которой был накрыт завтрак с сырами, колбасами и йогуртами, но самое удивительное – с рогаликами, которые продавали в мое пролетарское детство за 5 копеек в булочной на углу Автозаводской улицы, наискосок от райкома партии, и я считал их навсегда исчезнувшими из жизни. Я был очень голоден и набросился на еду и, если бы не эта животная жадность и изобилие утренних яств, наверняка удивился бы тому, что отель был пуст. Однако впечатление складывалось такое, что ночью в большом каминном зале пировало человек двадцать. И куда они, интересно, делись? Группа какая-нибудь, наверное, экстренная…
«Колько маете рожков?» – ласково спросила добрая пани, и мой гнев вместе с недоверчивостью и любознательностью рассеялись, как облачко над перевалом.
Завтрак назывался раняйками, фрукты овощами, овощи зеленью, свежий хлеб черствым, колбаса клобасой, ветчина шункой, а продукты потравинами. Я плюнул на всё и решил остаться «У мамы» и ждать дальше указаний от Пети, тем более что горнолыжный период закончился, гостиничка по случаю межсезонья пустовала и стоила совсем недорого. Спросил на всякий случай у хозяйки, не ожидается ли новая группа. Она удивилась моему вопросу и даже с какой-то грустью ответила, что никаких групп давно не было, да и вообще в гостинице из-за кризиса теперь редко бывает народ. Это показалось мне несколько подозрительным, но все же не до такой степени, чтобы отсюда сразу же сбежать.
Просыпался я поздно, съедал свои рожки с шункой, уходил на весь день гулять по городку и его окрестностям, и не было ничего более прекрасного, чем эти прогулки с медленными подъемами и спусками, и ранние сумерки, и звезды над горами, и встававшая из-за темных склонов печальная луна. Снег в распадках еще лежал, но ручьи были полны водой, вода падала повсюду, шумела, пела, плясала, и чудилось, что я нахожусь в каком-то ошеломительном, звенящем водном царстве. Хотелось ходить и ходить, подниматься на вершины, ночевать в лесу у костра, но уже не позволяли ни силы, ни годы – одышка, спина, ноги… Ну хотя бы так, поглядеть издалека, полюбоваться…
Вечерами пани Тринькова зажигала камин, ждала меня с ужином и волновалась, если я задерживался дольше обыкновенного. Хозяйка была очень добра ко мне, а может быть, все дело было в том, что ей надоело выпивать в одиночестве. Она не делала вид, что забыла русский, и почти без ошибок, с приятным акцентом рассказывала о дочери, которая уехала в Лондон и звонит очень редко, о муже, которому врачи поставили много лет назад плохой диагноз, но Франц не стал ложиться в больницу, а вместо этого они перебрались в Татры, где он прожил лишние двадцать лет. Пани ругала Европейскую унию, из-за которой все подорожало, с тоской вспоминала словацкие кроны и сердилась, что правительство ее страны оказалось таким уступчивым и слабым, ведь все соседи Словакии оставили свою валюту и жили гораздо лучше. Еще она говорила о любви к России, где они с мужем дважды были в туристической поездке, один раз в Киеве и Ленинграде, а другой – в Тбилиси и Ереване. Ленинград ей понравился больше всего, но и остальные города были прекрасны, а люди везде показались ей очень гостеприимными и отзывчивыми.
У меня была такая же оскомина от ее благодушных речей, как когда-то в университете, когда на кафедру в девятой аудитории взгромождалась штатная пропагандистка гуманитарных факультетов Валерия Ивановна Чаева, воспевала советскую Родину и поносила разлагающийся Запад; хотя – поймал я вдруг себя на мысли – если бы добрая словацкая пани принялась мою страну ругать, мне сделалось бы еще досадней.
Угнетало лишь безделье. Всю жизнь я проработал в издательстве, в архивном отделе, я любил документы, моему сердцу и уму были милы тайны, что они скрывают, пересечения людских судеб и духи истории – да и не в них даже было дело, а в том, что обыкновенное бессмертие, с которым я сталкивался каждый день среди архивных папок, отчасти примиряло меня с ролью прихлебателя при богатом человеке.
Павлик это понимал. Он как-то сказал мне, что самый счастливый человек на свете – Пимен из «Бориса Годунова».
– Я уверен, что Пушкин изобразил в нем мечту о собственной старости.
Если бы мы не сидели тогда в одноименном ресторане на Тверском бульваре, где нас звали то сударями, то господами, я бы расхохотался, но положение обязывало. Ведь не я Петю в «Пушкин» позвал, а он меня. И не я его, а он меня должен был облагодетельствовать. Я не сомневался, что и теперь Павлик выручит, спасет, однако март был на исходе, а по-прежнему не было ничего ни от него, ни от маленького Юры. Я звонил каждый день по нескольку раз, я писал эсэмэски, но Юра не брал трубку, а Петин телефон был выключен; не отзывалась даже электронная почта, и меня все больше мутила тревога. Да, я мог разминуться с теми, кто должен был меня встретить, что-то перепутать могли они, и мне, наверное, было бы логичнее остаться в Чьерне-над-Тисой, но в любом случае Павлик должен был дать о себе знать. Я понимал, что у него помимо меня забот хватает, он большой человек, а я для него так, каприз, дань сентиментальным дачным воспоминаниям детства, но то, что он про меня забыл, я исключал.