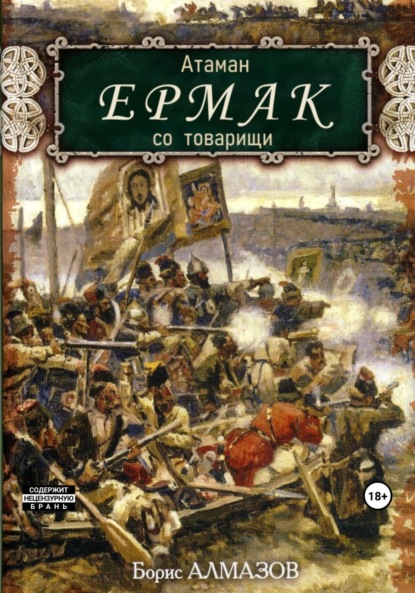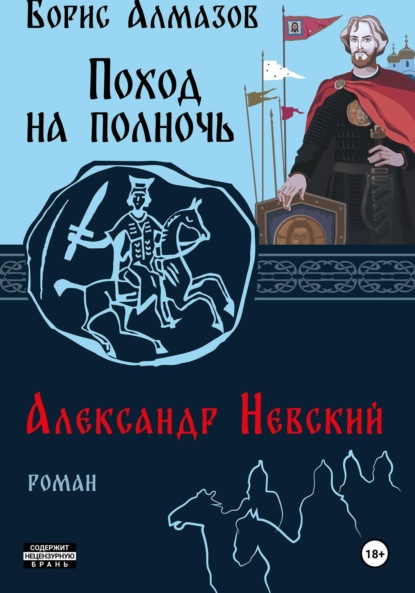Полная версия
Илья-богатырь
Но ежедневные тысячи поклонов за камушками, метание их в крайнюю борозду наливали тело прежней силой. Однако болели мышцы, и, если бы не мази-снадобья, коими натирали Илью старцы, не смог бы он спать как убитый и вставать поутру как заново родившийся.
Поили они его отварами, кормили какими-то своими кашами, растирали каждую мышцу на широченной спине, на груди, на руках и ногах.
– Подымайся, свет Илюшенька! Вороти силушку! Тебя Господь призывает!
Илья свои зароки помнил. Но ни о чем старцев не расспрашивал, а только слушал и постепенно понимал, зачем отыскали, немощного, калики, на какой труд воинский обетовался он и что угодно от него Господу.
Хазария Великая
Не нужно особой фантазии, чтобы представить, что почувствовали родители Ильи, когда пришел он сквозь чащобу лесную на расчистку, живой и здоровый. Хотя, пожалуй, не всякая фантазия может нарисовать, что происходило на выгоревшем участке леса, среди обглоданных огнем корней и пней, тысячу лет назад. Люди всегда остаются людьми, и мать, наверное, вскинулась и чувств лишилась, и отец слезу радости уронил: люди ведь и тогда чувствовали и переживали, как мы. Собственно, ведь это и есть мы – только тысячу лет назад!
Но во многом наши предки от нас отличались. И это обязательно нужно помнить, чтобы понять их поступки и чувства. Так, мир, окружавший их, сильно отличался от нашего. Мало того, что леса и степи были плотно населены животными, примерно как ныне – редкие, уцелевшие кусочки заповедников, он был населен еще и страхами, и верованиями тогдашних людей. И населен очень густо. Не было уголка в лесу, на озере, на реке, в поле, в огороде, в жилищах и хозяйственных постройках, где бы не таились десятки духов – капризных, несговорчивых, глуповатых и очень жестоких.
Человек шагу ступить не мог, не столкнувшись с ними, хотя жили они только в его представлении. Могли Илью родичи принять за оборотня, могли за лешего, потому что он уже так вымазался и так оборвался, работая на уборке камней, что на чистого, благообразного человека – того, что сидел в избе, вросшей в землю, под образами – и не походил.
Но был крест православный на груди, была улыбка белозубая и счастливая, был голос, слезами наполненный, когда, захлебываясь от счастья выздоровления, крикнул он:
– Отец! Матушка! Вот он я!..
А потом сидели в землянке, ели толоконную кашу, репу, в молоке паренную.
Хлеба, правда, уже не было. К апрелю кончился – так только, на пасхальный кулич мука оставалась. Ну да ничего – скоро новины будут. Новый хлебушко народится!
Об этом толковали долго. Прикидывали, как можно расширить запашку. Да мало ли о чем могли говорить люди, главным занятием которых была пашня?
Иван, отец Ильи, посматривал из-под нависших, уже по-стариковски кудрявых бровей на сына, на двух старцев, что подняли его от одра болезни, и понимал, что пришли они и свершили это неспроста.
Разглядывали Ивана и калики перехожие – украдом, вскользь. Был Иван так же велик и крепок, как сын, может, чуть ростом поменее – перевалило за пятьдесят, – сутулиться да в росте уменьшаться начал, а сын был в полной поре, в полной силе. Вот силушкой Иван, пожалуй, сыну еще не уступал.
Но не это интересовало монахов – сильно не походили отец и сын на здешний люд. Вот мать, хлопотавшая у глиняной печи и тревожно взглядывающая на гостей, – славянка. А эти – нет. Черные кудри: у сына – гроздями виноградными, у отца – с проседью; густые черные бороды: у Ивана – уже изморозью седины припорошенная; и темно-синие глаза… Не похожи они ни на вятичей, ни на кривичей, ни на мерю и мурому белоглазую. Несть в них и крови варяжской – уж больно кудрявы да темноволосы…
– Что же ты меня так рассматриваешь? – улыбнулся Иван, поймав на себе взгляд монаха. – Али диковину какую увидеть хочешь?
– И то, – ответил старец, – диковинно мне, что вы на тутошних людей не похожи.
– Так мы им не родня. Жена вот моя да сноха – от рода вятичей, а я – издалёка… Из проклятой Хазарии совсем мальчонкой сюды прибежал.
– Так ты – хазарин?
– В Хазарии, Богом проклятой, многие народы томятся. Рабов от всех язычников – тысячи. Да и сами хазары – разные, не одного племени и рода люди. Она ведь, Хазария, от моря Чермного до Гургана – моря великого. От лесов полунощных – до Железных ворот Дербент-кала. На восходе – Яик-река, на закате – Данапр. А с полуночи течет Итиль-река великая, и на ней – народов множество… Сейчас-то Хазария помене стала – обкорнали ее мечи славянские да булат басурманский, а прежде велика была – киевские каганы ей дань платили да аж из-за Яика-реки рабов вели. Рабов-то ей много надобно. Сие – главный промысел.
– Это нам знаемо! – перебил один из монахов. –Так было от веку!
– Ан вот нет, брат, не от веку! – закрутил кудрявой головой Иван. – Мне дед мой иначе сказывал. Ране хазары коренные жили на Тереке, на Сулаке-реке да на Итиле. Которые уже и крестились от армян и сирийцев. Иные же во тьме языческой пребывали, но зла никому не делали, потому – земля вокруг богата была и всего хватало. И принимали хазары всех, кто к ним приходил. Приняли общины еврейские, что из Ирана бежали от гонений. И тут мирно жили. Хазары рыбачили, виноградники растили, евреи скот пасли, как при пророках древних. Пришли с востока тюрки – люди бога Тенгри. И этих хазары приняли и жили мирно. И долго так было. Но на Дербент пошли басурмане из Аравии, и хазары, совокупно с евреями и тюрками, дали им отпор. И отбились, а как силы были невелики – стали искать союзников. И в черный час позвали иудеев с пути Шелкового! Рахдонитов-купцов. Те пришли и веру свою принесли и закон свой установили. И стала власть над всеми в Хазарском каганате! И стала Хазария врагом рода людского, потому что одним делом занялась: разбоем – ловлей рабов.
– И это нам ведомо! – как эхо, повторил монах. – Емлют хазары рабов от Перми Великой до ятвягов. А где своих воев послать не могут – скупают рабов у варягов да у печенегов. – Да как же они веру переменили, как ты говоришь, так быстро? – спросил другой калика. – Я ведь ветхую веру иудейску ведаю. Тамо только сыны двенадцати колен Израилевых могут ее наследовать. Потому Христос с фарисеями и спорил…
– Дак никто и не переменял! – сказал Иван. – Всяк при своей вере и остался. Только каган да все знатные обрезание сделали, да и то не сразу. Владел каганатом род Ашина – тюрки.
А рахдониты привели им жен с Шелкового пути – евреек прекрасных, искусных в пении, танцах и всяком деле женском, коего хазарянки не ведают.
И стали они рождать детей каганам, а по закону их от еврейки рождается еврей, ибо плоть мужская берется в плен. И стали новые каганы считаться хазарами, а веру исповедати иудейску. А другие как веровали своим богам, так и веруют… Только вера там одна – мамона! Корысть денежная! Вот вся и вера. Вся жизнь в каганате Хазарском на деньгах стоит. Все продается, все покупается! День и ночь торг шумит! Чего только не привозят в Итиль-город и в Тьмутаракань: и ткани, и благовония заморские, и злато-серебро, но пуще всего рабов, потому что нет этого товара дороже.
– Тьфу! – не выдержал почтительно слушавший родителя Илья. –Греха не боятся.
– Вот и нас, – продолжал Иван, – вывели из земли Каса, весь род наш. И сделали лучниками-черкасами. В войске хазарском. Но как нам не доверяли, то держали так, чтобы мы не могли ни в бою, ни в сражении изменить. Лучники всегда меж двух огней стоят: спереди враг, а сзади – свои – тяжелая пехота да конница. Не побежишь.
– И что, не бунтовал народ? Вои не бунтовали?
– Я же сказал – там все на деньгах да на наживе держалось.К примеру, ведут в поход, а семьи-то в залоге остаются. Ежели победят хазары – десятая часть добычи воинам идет. А ежели не победят – всех, кроме воевод иудейских, казнят без милости, а семьи в рабство продадут.
– Вона… – протянул один из монахов, – а я с хазарами по молодым годам рубился и диву давался – нет их в бою храбрее, люты в сече. А как в полон возьмешь его – так он и меча держать не хочет…
– Ну вот и мы так-то… Я еще маленький был, – продолжал Иван. – Отец меня с собою в поход брал, чтобы, не ровен час, в Хазарии проклятой меня от матери в рабство за море не продали. Частенько там детей у таких, как мы, христиан отымали да за море везли. Ребенок родины не помнит и оборониться не может. Кирилл равноапостольный был в Хазарии и, сказывают, встретил по пути полон не то алан, не то хазар – тюрок дальних, из Поля, с верховьев Танаиса. В рабство их гнали. Он и спроси, как, мол, в полон попали?
Те ответствуют: шли к морю креститися в городе Азов, да наскочили хазары конные, побрали нас сонных. Теперь гонят на продажу в страны басурманские, где несть света веры Христовой. Кирилл равноапостольный, что грамоту народу славянскому дал, и спрашивает: – Откуда про веру Христову знаете? – От славян, от болгар дунайских, греков и алан степных… ибо среди них уже есть христиане, и нет нам той веры желаннее. – Чем же вам вера та мила? – Веруем Господу и Спасу нашему Иисусу Христу, ибо он заповедовал мир и любовь и всех объявил равными, по подобию Божию сотворенными.
И праведным обетовал Царствие Небесное, и сам путь указал к воскресению из мертвых!
Кирилл говорит:
«И днесь вера ваша спасла вас!» – Весь полон на свои деньги выкупил и крестил в Азове, где еще от Андрея Первозванного церковь стоит, – сказал Иван, крестясь. Илья и монахи тоже перекрестились. – Но после сего диавол разжег души нечестивые, и стали они по всей Хазарии казнить христиан люто! И бежали иные в горы, иные, как мы, – через Поле, в места лешие-незнакомые, да стали, как звери, здесь много лет и скрываться…
Свет от глиняной печи плясал на стенах, в открытую по-летнему дверь землянки было видно звездное небо над частоколом лесных вершин.
– Однако вас и в пустыне Господь сберег, – начал один из калик. – Здесь не пустыня, – сказал Илья. – Здесь люди спокон веку живут; кабы разбоя не было, так рай бы земной тута был. – Скрыться на земле нельзя, – сказал калика. – Надо супротив сатаны стоять.
– Постоишь тут, – прокряхтел Иван. – Тамо держава целая… Тамо войско к войску… А нас – три десятка с мечами. И хоть каждый с десятком биться может, а все ж нас – горсть песка супротив горы.
– Мы, калики, давно ходим, и куда ни придем – везде так-то многоразличные бродники скрываются; кабы собрать их вместе…
– Михаил Архангел всех перед концом мира соберет, – вздохнул Иван, поднимаясь и тем самым давая понять, что разговор окончен. Но монахи продолжали, последовав за Иваном на полянку, где уселись на бревне поваленном.
– А вот скажи ты мне, – начал издалека один из монахов, – почему никто супротив хазар стоять не может?
– Что ты меня, как вот внучонка моего, распытываешь?! Это он глупой еще, а я то разумею, что всех хазары бьют потому, что держава у них, а кругом только племена да орды… – засмеялся Иван, поднимая на руки внука – сына Ильи, которого по-домашнему звали Подсокольничек, чтобы нечистая сила имени его Божия не услышала да каверзы какой не совершила… – Супротив Хазарии может только держава устоять. Вот, скажем, Царьград – царство греческой веры православной…
– Ну а Святослав-то хазар разбил!
– И у Святослава держава была и войско, да только он много как Царьграда слабее…
– А через чего?
– Так он же язычник! – удивился непонятливости монаха Иван. – А язычник ежели и победит, то не надолго. И ежели сгонит народы в державу, то они меж собою враждовать будут и развалятся…
– Однако ж, – подначивали монахи, – Хазарский каганат стоит, не шелохнется.
Подсокольничек тискался к деду, цеплялся ручонками за бороду, смотрел черными глазами на монахов недоверчиво.
– Спи, дитятко мой! – качал его на руках дед. – Спи. Вон уж месяц поднялся… А Хазария нынче не та, что прежде! – сказал он монахам. – Она, помяни мое слово, падет скоро и сгинет, как обры сгинули, и следа от зла ее не останется.
– Само ничего не происходит, – сказал монах.
– Все по воле Божией, – встрял в разговор Илья.
– Бог то Бог, да и сам не будь плох, – сказал другой монах. – Воля Божия через людей творится.
– Это верно, – согласился Иван, передавая уснувшего внука на руки матери. Женщины понесли ребенка в землянку, где на нарах уже спала, разметавшись во сне, старшая дочка Ильи. Дверь в землянку притворили. Мужчины остались одни.
– Ну что, божьи люди, – сказал Иван-старый. –Спасибо вам, что сына моего с одра болезни подняли.
– Так Христос расположил. Все по воле Божией, – прошелестели монахи.
Иван откашлялся и, переходя к самому трудному разговору, спросил напрямки: – Сказывайте, люди добрые, с чем пришли? Какое у вас к нам дело? Ведь, я чаю, неспроста вы из пещер киевских полгода сюды пробирались?
– Это разговор долгий, – не сразу ответили монахи.
Ночная птица пронеслась над их головами, враждебный темный лес, казалось, приблизился к людям. Этот мир был им хотя и страшен, но привычен; тот, из которого пришли странники, был Илье неведом, а отцу его памятен и, кроме неприязни и тоски, никаких чувств не вызывал. Иван смутно помнил широкие выжженные степи и стоящие за огромными пустыми пространствами их, будто застывшие облака, горы. Остро он помнил только боль.
Даже отца не помнил, словно видел его во сне, а вот боль – неожиданную, жгучую – помнил.
Помнил, что, когда пришла весть о казнях христиан в Хазарии, отец его – дед Ильи, внешне очень схожий с нынешним Ильей, – сказал:
– Нам возвращаться, братья, некуда! Нет более наших семей, и на рынках невольничьих нам их не отыскать! Надо уходить за Поле великое, в леса, где нас не отыщут хазары и не приневолят. Там своего часа ждать будем.
Они шли долго, ведя в поводу коней или садясь в седла, скрытно обходя хазарские и аланские посты-сторожи. Однажды на рассвете, когда маленький Иван заснул совершенно обессиленный, отец разбудил его, повернул лицом в ту сторону, где у самого края неба виднелись снежные шапки гор, и приказал молиться. Иван долго читал молитвы, путая славянские, греческие и тюркские слова.
– Смотри! – приказал отец, беря Ивана за плечи и заставляя глядеть на горы. – Это наша земля! Там кости наших предков, и мы вернемся! Запомни, что ты видел! Там – наша родина!
Иван смотрел изо всех сил, и вдруг испепеляющая боль согнула его.
Отец приложил к его груди раскаленный в костре медный крест.
– Зачем ты это сделал? – спросил его много лет спустя Иван.
И, совсем уже ветхий, прозрачный от седой старости, отец сказал:
– Ты ведь забыл все! Ты забыл лица матери и сестер, ты забыл всех, кто обижал тебя, ты забыл и бои, и победы, а то утро – помнишь… И все, что ты видел, – помнишь. Я память твою болью запечатал. И на груди у тебя крест особый! Аджи! Этот крест ты можешь снять только с кожей своей. И помни: здесь мы только живем, а земля наша там, у высоких гор, в стране Каса…
Когда Илье исполнилось семь лет, Иван выжег у него на груди крест аджи – крест равносторонний, древний… И навек запечатал в его памяти, что он – христианин из земли дальней Каса, которую никогда наяву не видел, а во сне она являлась такой прекрасной, что слезы текли из-под опущенных век… И так будет всегда, – думал Иван, – так будет до тех пор, пока не падет проклятая Хазария и мы не вернемся! Но, наверное, и тогда останется память о той боли, которую мы принимаем вместе с крестом и причислением к роду христианскому…»
– Будет разговор долгий… – прервал мысли Ивана безымянный монах. – Долгий, а начинать его надобно.
В землянке хныкал проснувшийся Подсокольничек. В других землянках затворяли двери, закладывали на ночь от лихого человека, от работорговца-разбойника, от татя, имение-животы крадущего. Крестились на ночь все запоры от врага невидимого, от бесов языческих, местным народом почитаемых, от козней сатанинских, диаволом против христиан творимых. Потаенно отходила во все стороны от работ, от расчисток сторожа неслышная, таилась на всех тропах, откуда мог прийти к родичам лютый враг или зверь-оборотень. Возжигались глиняные лампады пред ликами икон святых – редких, византийского письма, через многие страны и языки сюда принесенных. Взирали из передних углов строгие глаза заступников Божиих, и в неизреченном милосердии Своем хранила народ Христов Богородица.
Мужчины рода Ильина сидели в лунном сияющем свете, среди еще кое-где дымящихся пней, в дрожащем от тепла воздухе, над будущим кормильцем – полем и слушали все, что говорили им монахи, ради служения Господу Христу и народу православному отрекшиеся от всей красоты земной, по воле Господней – от всего своего: от сродников, чад и домочадцев, от близких и кровных своих, от всего имения и живота своего, и даже от имен своих, ушедшие в пещеры киевские, а нынче явившиеся на новый подвиг…
А слушать было что. Подробно и неторопливо поведали монахи о мире земном, о странах и языках, его населяющих, о прошлом от Адама до сего дня. И слушали их, затаив дыхание, бродники-беглецы из рабства хазарского, в лесах дремучих, за тысячи верст от страны Каса – призрачной и манящей, как Царствие Небесное…
Рассказали монахи о мире поднебесном. О великой степи, что протянулась от Золотых гор до Карпат, о народах, в ней кочующих и проходящих этой дорогой от веку. О скифах древних, о сменивших их сарматах, о гуннах, катившихся медленно и неотвратимо из-за Каменного пояса и сметавших на пути своем страны и народы. О хазарах горных и о хазарах-тюрках, о державе их, покорившей полсвета, и о скором закате ее… – Однако, – говорил монах, когда небо на востоке уже начало светлеть, а луна погасла, – веруем, что Хазария, гнездо сатанинское, падет, но сила ее велика, а народы округ каганата, как стрелы в колчане, – бесполезны. Надобен лук, чтобы стали они оружием и крепостью. Луком таким несокрушимым должна стать вера Христова. Она породит народ новый, добрый и праведный, и сокрушит тот новый народ – рабство. И будет на земле жить правда Христова, ибо только она истинна, только она свет… Народ нынче во тьме ходит. И князи, и воеводы – тоже. Истуканам поклоняются, не ведая, что сие – бесы, ибо их множество и они-то лика сатанинского. И пока единой веры не будет на всей земле, где живут племена славян, финнов, тюрок и сотен иных людей, защиты против Хазарии не будет, и станут казнити хазары всех розно, как они делают до сих пор. И выведут всех людей, и будет здесь пустыня дикая.
Внимательно, ловя каждое слово, слушали потомки беглецов хазарских слова старцев. Огромный мир открылся им, и шумели в том мире события, которые смутным эхом докатывались и сюда, в леса дремучие.
– Да! – сказал Иван. – За тяжкое дело вы принялись и великую думу удумали.
– Не мы! – ответили в один голос монахи. – Не мы, но многие до нас. Мы же благословение приняли от матери народа будущего, княгини Елены. Она, сама крестившись и нас приобщив к вере Христовой, заповедала нести свет истины и подымать в духе державу новую…
– Мы про такую-то и не слыхали… Елена?.. – сказал Иван.
– В миру ее звали киевская княгиня Ольга, или Хельги – регина русов.
Хельги – регина русов
Монахи помнили ее уже старухой – высокой, стройной и величавой.
Всегда в черном корзне, из-под которого иногда вспыхивало темным огнем тяжелое порфировое платье, всегда в княжеской шапке поверх туго повязанного вдовьего платка. При ее появлении смолкали дружинники. Она никогда никого не укоряла и не бранила, но при ней не смели появляться в затрапезе или с похмельным запахом.
Нынешних монахов – тогдашних воинов, славянина да варяга, – как опытных кулачных и рукопашных бойцов, приставили охранять княгиню. Воевода Свенельд приказал всегда быть при княгине, служить и помалкивать. Может быть, тогда они и научились молчать.
Днем и ночью, позабыв игры и битвы, как тени следовали они за княгиней.
И многое открывалось им, что иным людям было невдомек.
Спервоначалу поняли они, почему именно их, славянина и варяга, высмотрела себе в телохранители старая княгиня. Держава ее была такова – славянская да варяжская. Сама княгиня, шли разговоры, была из русов, что жили рядом со словенами ильменскими. Если так, то понятно, почему не было в охране воя от русов. Да если честно сказать, их и в дружине уже видно не было: повсюду русами звались и варяги, и славяне, а самих старых русов – днем с огнем поискать.
Сказывали, еще лет с тридцать назад Новгород русами полнился, а сегодня внуки их и не помнят, что они иного, чем славяне, корня. Все по-славянски разговаривают. Да и варяги тоже… Хотя эти кучкой держатся и, чуть что, в иные страны служить, не то воевать подаются. И, приглядевшись, поняли два нарочитых дружинника, что и варяги не одинакие. Те, что нанимались в дружину, приходя из северных краев, языка славянского не знали, были ненадежны, хотя и свирепы, сильны и на расправу быстры. Веровали они одноглазому богу Одину, ему молились, ему жертвы приносили.
Варяги же киевские говорили по-славянски, веровали Перуну, но не так яростно, как варяги северные, хотя и этот бог требовал человеческих жертвоприношений. Потому для угождения ему, на будущую удачу, приносили в жертву пленников – юношей, девиц, младенцев и черных петухов.
Варяги стояли за спиною князей, они были шеей, которая поворачивала князя-голову, и он делал многое, что требовали от него дружинники.
Дружинники-варяги покорили Киев. Дружинники Рюрика – Дир и Аскольд покорили окрестных славян, били алан, хазар, ходили на Царьград, их же побил и смерти предал не князь Рюрик, а дружинник – старый Хельги за то, что много воли себе взяли и так в Киеве правили, будто Рюрика и на свете нет…
И на престол посадили малолетнего сына Рюрика Янгвара, предпочитая оставаться за его спиной, в тени. Князь был как знамя, как факел пред дружиною в ночи, а вершила все дела – дружина, да бояре – дружинники нарочитые, да воеводы – дружинники знатные.
Старый Хельги, или, как стали звать его на славянский манер – Олег, многое предвидел, далеко вперед смотрел – потому, когда осиротел Игорь, он ему как отец сделался. Он его в походах прикрывал, он ему и жену высмотрел. И не ошибся – он никогда не ошибался, точно заранее знал, что будет, потому и прозвище получил – Вещий…
Привели жену Янгвару или, по-киевски, Игорю, от русов, из града их в земле северной, Новгородской, и стала она – Хельги.
При князе Янгваре не видна была – как и положено жене честной. Родила ему сына – княжича Святослава. Его князь в гридницу внес дружине показать, как только пуповину обрезали. Его на коня сажали, когда ему год исполнился, ему в три года дали меч – засапожный короткий нож, из лука целить стали учить… А в семь лет он сам за копье взялся. Потому – отца уже не было. И погубила его – дружина…
Много лет спустя, вспоминая то время, уже приняв чин монашеский, обсуждали бывшие дружинники, а ныне калики перехожие, что же случилось в тот год, когда Игорь брал полюдье в земле древлянской? Они и сами на полюдье бывали и видели, что год от года полюдье набег воинский все меньше напоминает. Это, сказывают, раньше, при Олеге да Рюрике, врывалась дружина в селища и волокла все, что под руку попадало, а то и рабов, ежели кто замешкался. При Игоре так-то уж не было! Приходили загодя, и выносили смерды дань условленную…
И в тот год собрали все… И древляне, недавно покоренные, но еще сильные, все вынесли, что было им предписано. И дружина ушла, данью нагруженная. Зачем князь вернулся? Почему стал второй раз дань имати? Для кого?
Да вернулся-то с дружиной малой; что же он думал? Куда дружина его делась?
Нить за нитью, словно клубок разматывая, перебирали они, сидя в темных кельях, в пещерах киевских. Там при свете слабой лампады можно было легко перенестись в тот ноябрь, когда, скрипя по снегу валенками вослед за санями, поспешали в накинутых поверх панцирей полушубках отроки и гридни варяжские за князем, едущим на коне впереди.
Вперяя широко открытые глаза во тьму пещеры, будто видели монахи и коня, фыркающего из ноздрей горячим паром, и заиндевевшее брюхо его.
И дружинников с покрытыми сосульками усами, – кучка людей средь лесов и снежных просторов, будто волки, идущие след в след на запах дыма…
Но почему князь не в алом корзно? Почему шлем на нем, а не шапка княжеская? Да ведь впереди дружины не князь, а воевода – Свенельд. Вот он – совсем еще молодой, но умелый и безжалостный сборщик дани.
– Все правда, все истина… – шептали монахи, вглядываясь в явившуюся им картину и боясь спугнуть зыбкое видение. – Свенельд-воевода был на полюдье. Он с дружиной – опытной и сильной, с дружиной варяжской – ходил древлян примучивать. Он в тот год дань урочную свою собрал и всю в Киев доставил. И долю свою и дружины своей получил.
А это кто опять спешит из Киева? Вот он, Игорь. Едет не на коне, а в санях. Немолод – тяжело ему в седле. И дружина с ним – малая, неопытная. Идет он опять к ближним древлянам, опять дань собирать. Почему? Почему без дружины, почему второй раз, почему – сам?