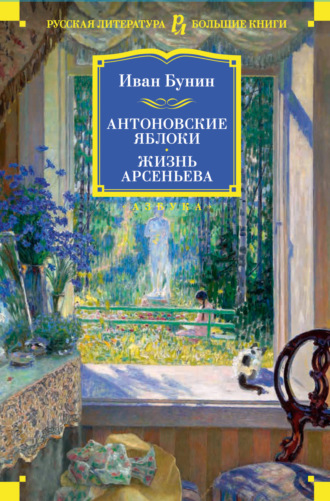
Полная версия
Антоновские яблоки. Жизнь Арсеньева
– И женил? – спросил Кузьма.
– Вона! – воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток. – Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану…
«Ну и рассказ!» – долго думал Кузьма после этого вечера. А погода портилась. Писать не хотелось, тоска усиливалась. Только и радости что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз Гололобый из Басова – совершенно лысый мужик в огромной шапке, – писать прошение на свата, переломившего ему ключицу. Приходила вдова Бутылочка с Мыса – писать письма к сыну, вся в лохмотьях, вся мокрая и ледяная от дождя. Начнет диктовать – в слезы.
– Город Серьпухов, при дворянской бане, дом Желтухин…
И заплачет.
– Ну? – спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, по-стариковски глядя на Бутылочку – поверх пенсне. – Ну, написал. Дальше что?
– Дальше-то? – спрашивает Бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает: – Дальше-то пиши, касатик, поскладнее… Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову… в собственные руки…
И продолжает – то с остановками, то совсем без остановок:
– Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише, что же ты, Миша, про нас забыл, никакого слуху нету от вас… Ты сам знаешь, мы на хватере, а теперича нас сгоняют долой, куда ж мы теперича денемся… Дорогой наш сыночек Миша, просим мы вас за ради Господа Бога, чтоб вы приезжали домой как ни можно скорей…
И опять сквозь слезы шепотом:
– Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем у своем угле…
Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой желтой листвой акаций, необозримые пашни и озими вокруг Дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре – дожди, где за нуждой приходится идти на варок или в вишенник. Когда завернуло ненастье, пришлось гостиную забить наглухо и перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда оказывалось, что забыли запастись керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня, а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча, со строгим лицом подавала Молодая.
«Куда бы поехать?» – думал он порою.
Соседей поблизости было всего только трое: старуха-княжна Шахова, которая не принимала даже предводителя дворянства, считая его невоспитанным; отставной жандарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, женившийся на простой бабе, говоривший только о хомутах и скотине. О. Петр, священник из Колодезей, куда Дурновка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство не возымел охоты ни тот ни другой. Кузьма угостил священника только чаем – священник резко и неловко захохотал, увидав на столе самовар. «Самоварчик? Отлично! Вы, я вижу, не тароваты на угощенье!» И хохот совсем не шел к нему: точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими лопатками и черными крупными волосами, с бегающим взглядом.
Не часто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был чем-нибудь расстроен. И одиночество было так безнадежно, что порою Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове. Сравнивал он себя и с Серым. Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, слабоволен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы!
По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с неделю. Явился домой сумрачный.
– Ай опять к Русанову ходил? – спросили соседи.
– Ходил, – ответил Серый.
– Зачем?
– Уговаривали наняться.
– Так. Не согласился?
– Дурей их не был да дó веку и не буду!
И Серый, не снимая шапки, опять надолго засел на лавку. И в сумерки тоскливо становилось на душе при взгляде на его избу. В сумерки за широким снежным логом скучно чернела Дурновка, ее риги и лозинки на задворках. Но темнело – и загорались огоньки, казалось, что в избах мирно, уютно. И неприятно чернела только темная изба Серого. Она была глуха, мертва. Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного жилья – пахнет снегом, в дыры крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит навозом и хворостом, кое-как накиданным на стропила; найдешь ощупью покосившуюся стену и отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко… Никого не видно, но угадываешь: хозяин на лавке, – угольком краснеет его трубка; хозяйка, – смирная, молчаливая, с придурью баба, – тихонько покачивает повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки забились на чуть теплую печку и что-то шепотом рассказывают друг другу. В гнилой соломе под нарами шуршат, возятся коза и поросенок – большие друзья. Страшно разогнуться, чтобы не удариться головой в потолок. Повертываешься тоже с опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.
– Ктой-то? – раздается из темноты негромкий голос.
– Я.
– Никак Кузьма Ильич?
– Он самый.
Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. Понемногу начинается разговор. Угнетенный темнотой, Серый прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит…
Зима наступила долгая, снежная.
Бледно-белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустыннее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах, пошел тонуть в непролазных наносах, испещренных заячьими следами, однодворец Тарас Миляев, спокон веку приверженный охоте, превратились в мерзлые глыбы водовозки, наросли ледяные скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам – и зимние будни установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, скарлатина… Вокруг прорубей, из которых пила вся Дурновка, над вонючей темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше сизых голых колен, в мокрых лаптях, с большими, закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжевые портки, детские загаженные свивальники, полоскали их, били вальками и перекликались, сообщая друг другу, что руки «зашлись с пару», что во дворе у Матютиных помирает в горячке бабка, что у снохи Якова завалило горло… Смеркалось часа в три, лохматые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не знала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.
Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в синеватой темноте, когда зажигались по избам огоньки, затапливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами становилось холодно, как в сенцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую таскал из розвальней Кошель. Слышался его негромкий сиплый голос – голос человека, проснувшегося рано, натощак озябшего. Гремела трубой самовара и строгим шепотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где тараканы до крови обтачивали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? Кузьма уже знал от Однодворки, чтó говорили на деревне, и, просыпаясь, всегда вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закуривал цигарку: это успокаивало сердце, облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расстаться с теплом, курил и думал: «Бесстыжий народ! Ведь у меня дочь ровесница ей…» То, что за стеной ночевала молодая женщина, волновало его только отеческой нежностью: днем она была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в ней что-то детское, грустное, одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон Ильич: что-то уж очень странно усмехался он порою. Он и всегда-то был недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял ум: что ему ни скажи – у него на все один ответ.
– Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.
– Брехня. Знаем мы этот катар!
– Да мне фельдшер говорил.
– А ты слушай его побольше…
– Хочу газетку выписать, – скажешь ему. – Дай мне, пожалуйста, в счет жалованья рублей десять.
– Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и денег-то всего пятиалтынный, не то двугривенный…
Войдет Молодая с опущенными ресницами:
– Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть…
– Это как же так – чуть? Ой, брешешь, баба!
И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере еще дня на три, все быстро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз даже спросил, усмехнувшись:
– А как спать-то вам, ничего, тепло?
И Молодая густо покраснела и, нагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы похолодели пальцы.
– Стыдно, брат, Тихон Ильич, – пробормотал он, отвертываясь к окну. – И особливо после того, что ты сам же открыл мне…
– А чего ж она покраснела? – зло, смущенно и неловко улыбаясь, спросил Тихон Ильич.
По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, плавал, как битое стекло, лед в рукомойнике. Кузьма порой принимался за чай, вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От нечистоты и холода он сильно похудел и поседел за осень. Похудели руки, кожа на них стала тоньше, глянцевитее, покрылась какими-то мелкими лиловыми пятнышками.
Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало возле изб – лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между избами и пуньками в школу, взбегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом. Навстречу им, приседая под коромыслом с двумя ушатами и неловко ступая безобразными задубеневшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, больной, темнолицый Чугунок; тянулась с бугра на бугор и, раскатываясь, расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, занимавшие друг у друга то соли, то пшена, то совок мучицы на лепешки или саламату. На гумнах было пусто, – только у Якова дымились ворота риги: он, подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на задворках, расстилалось под низким белесым небом серое снежное поле, пустыня волнообразного наста.
Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелю в людскую – горячими, как огонь, картошками или вчерашними кислыми щами. Он вспоминал город, где прожил всю жизнь, и дивился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой, он презирал и ненавидел деревню всей душою. Кузьма только силился ненавидеть. Он теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он совсем одичал в Дурновке – часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно все-таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту именно колею, какая, может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь дурновцев!
После завтрака он гулял иногда по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, была высока и страшно худа, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, как мужик курила трубку: истопит печку, сядет на нары и покуривает себе, мотая тонкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раза два за весь пост Кузьма выезжал – был на почте и у брата. И поездки эти были тяжелы: промерзал Кузьма до того, что не чувствовал, есть у него тело или нет. Бараний тулуп его служил так давно, что весь пошел лысинами. А ветер в поле был свирепый. После сидения в Дурновке нельзя было надышаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого созерцания деревни поражал снежно-серый простор, по-зимнему синеющие дали казались неоглядными, красивыми, как на картине. Бодро, отфыркиваясь, неслась против жесткого ветра лошадь, смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней. Кошель, с черно-лиловой обмороженной щекой, бодро кряхтя, соскакивал с облучка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер продувал насквозь, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, ныли и коченели, лоб и скулы ломило… А в низенькой почтовой конторе в Ульяновке было скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемпелем, угрюмый Сахаров орал на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур или пуд муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с братом, отдохнуть у него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о подлости и злобе мужиков, – о необходимости поскорее, поскорее развязаться с имением. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бояться мужа; невпопад встревала в беседу, невпопад хвалила его – его ум, зоркий хозяйский глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.
– Уж такой доступный до всего, такой доступный! – говорила она – и Тихон Ильич грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в усадьбу. «Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!» – бормотал Кузьма на пути домой, вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадь, торопясь скрыть в своем домишке и тоску свою, и старую холодную одежду…
На Святках к Кузьме повадился Иванушка из Басова. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший носками внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Иванушки вымерла. Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от Дурновки. Можно было дожить век и у сына, но Иванушка предпочел бродить, побираться. Он косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке, с мешком в правой, с раскрытой головой, на которой белел снег, – и овчарки почему-то не брехали на него. Он входил в дом, бормотал: «Дай Бог дому сему да хозяина в дому» – и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и с удивлением, с робостью смотрел на него поверх пенсне, как на какого-то степного зверя, присутствие которого было странно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала Иванушке миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую от соли, и становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотна, широка, и красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски-просто и старинно, что, казалось, иначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она, улыбаясь, – она улыбалась только ему одному – негромко говорила:
– Закуси, закуси, дедушка.
А он, не поднимая головы, зная ее ласку только по голосу, тихо ныл в ответ, иногда бормотал: «Спаси табе Господь, внучкя», широко и неловко, точно лапой, крестился и жадно принимался за еду. На его бурых волосах, нечеловечески густых и крупных, таяло. С лаптей текло по полу. От ветхого бурого чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой. Изуродованные долголетней работой руки, корявые, негнущиеся пальцы с трудом ловили картошки.
– Небось холодно в одном чекмене-то? – громко спрашивал Кузьма.
– Ась? – слабым нытьем отзывался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.
– Холодно тебе небось?
Иванушка думал.
– Чем холодно? – отвечал он с расстановкой. – Ничаво ня холодно… В старину куда стюдяней было.
– Подними голову-то, волосы-то поправь!
Иванушка медленно качал головою.
– Таперь, брат, не подымешь… Гнеть к земле-то…
И с тусклой улыбкой силился поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные, сощуренные глазки.
Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил возле себя – искал мешок, палку и шапку, а найдя и успокоившись, начинал неторопливую беседу. Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая расспрашивали – и он, как во сне, откуда-то издалека, отвечал. Он рассказывал своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу царь не может есть – «дюже солона», что пророк Илья раз проломил небо и упал на землю: «дюже был грузен»; что Иван Креститель родился лохматый, как баран, и, крестя, бил крестника костылем железным в голову, чтобы тот «очухался»; что всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норовит человека убить; рассказывал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерин, которого держали «на чепи» – так силен и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, у него, у Иванушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы… Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от холеры, а оттого, что перешла после пожара в новую избу, ночевала в ней, не дав сперва переночевать кочету, и что он с сыном спасся только случайно: спал в риге… Под вечер Иванушка поднимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду, не склоняясь ни на какие увещания остаться до утра… И простудился насмерть – и под Крещение скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Иванушка не согласился: сказал, что, причастившись, помрешь, а смерти он твердо решил «не поддаваться». Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду просил невестку сказать, что его дома нет, если постучится смерть. Ночью раз пришел в себя, собрал силы, слез с печи и стал на колени перед образом, озаренным лампадкой. Он тяжко вздыхал, долго бормотал, повторял: «Господи-батюшка, прости мои прегряшения…» Потом задумался, долго молчал, приникнув головою к полу. И вдруг поднялся и твердо сказал: «Не, не поддамся!» Но утром увидал, что невестка разваливает пироги, жарко топит печь…
– Ай мне на похороны? – спросил он дрогнувшим голосом.
Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да, верно, – у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмиконечными крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, стариком Лукьяном: Лукьян захворал, ему купили гроб – тоже хороший, дорогой гроб, – привезли из города муки, водки, соленого судака; а Лукьян возьми да и поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять проклинали потом за них, сживали попреками со свету… Иванушка, вспомнив это, поник головой и покорно побрел в избу. А ночью, лежа на спине, без памяти, стал дрожащим, жалобным голосом петь, да все тише, тише – и вдруг затряс коленами, заикал, высоко поднял грудь вздохом и, с пеной на раскрытых губах, застыл…
Чуть не месяц Кузьма пролежал из-за Иванушки в постели. Утром на Крещенье говорили, что птица мерзнет на лету, а у Кузьмы даже валенок не было. И все-таки он поехал взглянуть на мертвого. Руки его, сложенные и закоченевшие под огромной грудью на чистой посконной рубахе, уродованные мозолистыми наростами в течение целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что Кузьма поспешил отвернуться. А на волосы, на мертвое звериное лицо Иванушки он даже и покоситься не мог – поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и празднично-чисто, над возглавием широкого лилового гроба, закрытого коленкором, мерцал золотистый огонек восковой свечки, прилепленной к угловому темному образу, пестрела яркими красками лубочная картина – продажа братьями Иосифа. Приветливая солдатка легко поднимала на рогаче и вдвигала в печь пудовые чугуны, весело говорила о казенных дровах и все упрашивала остаться до возвращения из села мужа. Но Кузьму била лихорадка; лицо горело, от водки, отравой разлившейся по озябшему телу, стали навертываться на глаза беспричинные слезы… И, не согревшись, Кузьма поехал по белым крепким волнам полей к Тихону Ильичу. Заиндевевший, бело-кудрявый мерин бежал шибко, екая селезенкой, кидая из ноздрей столбы серого пара; козырьки голосили, звонко визжали железными подрезами по жесткому снегу; сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спереди, с севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром; вешки клонились в густом кудрявом инее, и крупные серые овсянки стаей летели перед мерином, рассыпáлись по лоснящейся дороге, клевали мерзлый навоз, опять взлетали и опять рассыпáлись. Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые ресницы, чувствовал, что задеревеневшее лицо его с белыми кудрями усов и бороды стало похоже на святочную маску… Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом блеске, от их хребтов и зазубрин тянулись голубые тени… Кузьма круто повернул лошадь и погнал ее назад, домой. Солнце село, в доме с запушенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно. Снегирь, висевший в клетке возле окна в сад, околел, лежал вверх лапками, распушив перья, раздув красный зобик.
– Готов! – сказал Кузьма и понес снегиря выкидывать.
Дурновка, занесенная мерзлыми снегами, такая далекая всему миру в этот печальный вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Кончено! Горящая голова мутна и тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет… Скрипя по снегу лаптями, к крыльцу подходила с ведром в руке Молодая.
– Заболел я, Дунюшка! – ласково сказал Кузьма, в надежде услыхать от нее ласковое слово.
Но Молодая равнодушно, сухо ответила:
– Самовар, что ль, поставить?
И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ничего и об Иванушке… Кузьма вернулся в темную комнату и, весь дрожа, со страхом соображая, как же это и куда он будет ходить теперь за нуждой, лег на диван… И вечера смешались с ночами, ночи с днями, счет их потерялся…
В первую ночь, часа в три, он очнулся и постучал в стену кулаком, чтобы попросить воды: мучила во сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук никто не отозвался. Молодая ушла ночевать в людскую. И Кузьма вспомнил, почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он очнулся в склепе. Значит, в прихожей, пахнущей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он, больной и беспомощный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней ночи и висит ненужная клетка!
– Господи, спаси и помилуй, Господи, помоги хоть сколько-нибудь, – зашептал он, поднимаясь и шаря дрожащими руками по карманам.
Он хотел зажечь спичку. Но шепот его был горячечный, в пылающей голове шумело и звенело, руки, ноги леденели… Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро распахнула дверь, положила его голову на подушку, села на стул возле дивана… Одета она была барышней – бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха, – руки ее пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза раскраснелись… «Ах, как хорошо распуталось все!» – шептал кто-то, но нехорошо было то, что Клаша почему-то не зажгла огня, что приехала она не к нему, а на похороны Иванушки… что она внезапно басом запела под гитару: «Хаз-Булат удалой, беднá сакля твоя…»
В смертельной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воронежем, но даже в бреду не покидала его мысль – сказать кому-то, чтобы хоть в одном сжалились над ним – не хоронили в Колодезях. Но, Боже мой, не безумие ли надеяться на жалость в Дурновке! Раз он пришел в себя утром, когда топили печку, – и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так беспощадны, чужды и странны, как всегда кажется беспощадна, чужда и странна больным обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар – и онемел: послышался сердитый шепот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о больном, и отрывистый ответ Молодой:
– А, да ну его! Помрет – похоронят…
Потом светило в окна сквозь голые ветви акаций предвечернее солнце. Синел табачный дым. Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнущий лекарствами и морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. Фельдшер говорил о своих коровах, ценах на муку и масло, а Тихон Ильич рассказывал, как чудесно, богато хоронили Настасью Петровну, как он рад, что нашелся наконец покупатель на Дурновку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге на вокзал; понимал, что стоили Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял задаток за Дурновку – и был совершенно равнодушен…












