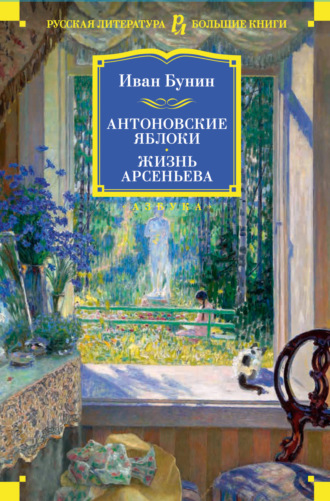
Полная версия
Антоновские яблоки. Жизнь Арсеньева
Ступни у скопца были маленькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы тонкие… Да хорош был и Полозов – учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь… Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ручьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свежезеленые опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидал на противоположной площадке странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за плечами, на тонких ногах – бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум:
– С богомолья?
– Из Воронежа, – с милой готовностью ответил слабым криком странник.
– Жгут там помещиков?
– Жгут…
– И чудесно!
– Ась?
– Чудесно, говорю! – крикнул Кузьма.
И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал свертывать цигарку… Но мысли опять спутались. «Странник – народ, а скопец и учитель – не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад, – что ж и взыскивать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!» И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.
На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей – до Казакова было двенадцать верст, – потом пять с полтиной. Наконец один сказал: «Трояк отдашь – повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не прежнее…» Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: «Опять же корма дорогие…» И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая лошаденка ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее «не удержишь», и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых онучах, в коротком чекмене, подпоясанном оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курной избой, коноплей, – пахарь времен царя Гороха! – лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сиплый.
– Как тебя зовут? – спросил Кузьма.
– Звали Ахванасьем…
«Ахванасьем!» – подумал Кузьма с сердцем.
– А дальше?
– Меньшóв… Н-но, анчихрист!
– Дурная, что ль? – кивнул Кузьма на горло.
– Ну уж и дурная, – пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону. – Квасу холодного напился…
– Да глотать-то больно?
– Глотать – нет, не больно…
– Ну, значит, и не болтай попусту, – сказал Кузьма строго. – Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Женатый небось?
– Женатый…
– Ну, вот видишь. Пойдут дети – и наградишь ты их всех в лучшем виде.
– Уж это как пить дать, – согласился Меньшов.
И, томясь, стал дергать вожжи. «Но-но… Сладу с тобой нету, анчихрист!» Наконец бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:
– Собрали, купец, Думу-то ай нет?
– Собрали.
– А Макаров-то, говорят, жив, – только не велел сказывать…
Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! «А богатство-то какое!» – думал он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голом дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и оглядывая улицу. Чернозем-то какой! Грязь на дорогах – синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов – темная, густая… Но избы – глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб – рассохшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками… Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба – все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном палочка и по ней вверх рогульки – елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом – зубцами. «Творчество! – ухмыльнулся Кузьма. – Пещерные времена, накажи Бог, пещерные!» На дверях пунек – кресты, написанные углем, у крыльца – большой могильный камень, – видно, дед или бабка про смерть приготовили… Да, двор богатый. Но грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья. Окошечки – крохотные, и в жилой половине избы небось темнота, вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями… А семья большая, детей много, зимой – ягнята, телята… И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети хнычут – и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются – «чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная!» – желают друг другу «подавиться куском на велик день»; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные жилистые руки, надрывается от визгливой брани, брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую… Зол, болен и старик, изнурил всех наставлениями…
Дальше повернули на выгон. На выгоне налаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали остовы палаток, навалены были колеса, глиняная посуда; дымилась смазанная на живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее сидели овчарки на цепях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа девок, мужиков и раздавались вскрикиванья.
– Гуляет народ, – задумчиво сказал Меньшов.
– Это с какой радости? – спросил Кузьма.
– Надеется…
– На что?
– Известно на что… На домового!
– И-их! – крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот:
Не пахать, не косить –Девкам жамки носить!И невысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было домовито, чисто, прочно – и лапти, и онучи, и новые тяжевые портки, и очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддевки из толстого сивого сукна. Он вдруг мягко и ловко топнул лаптем, взмахнул руками, тенором крикнул: «Расступись, дай купцу глянуть!» – и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, черную поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.
– Сынок! Желанный! – вопила, среди гама и дробного топота, старушка в паневе, протягивая руки. – Будя тебе за ради Христа! Желанный, будя – помрешь!
И сынок вдруг вскинул голову, сжал кулаки и зубы и с яростным лицом и топотом выкрикнул:
Ццыц, бабка, не кукуй…– А она и так последние холсты для него продала, – говорил Меньшов, тащась по выгону. – Любит она его без памяти, – дело вдовье, – а он почесть кажный день мордует ее, пьяный… Знать, того стóит.
– Это каким же манером – «того стóит»? – спросил Кузьма.
– А таким… Не потакай…
У одной избы сидел на скамейке длинный мужик – краше в гроб кладут: ноги стоят в валенках, как палки, большие мертвые руки ровно лежат на острых коленях, на протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза замученные, просящие, нечеловечески худое лицо вытянуто, губы пепельные, полураскрытые…
– Это Чучень, – сказал Меньшов, кивая на больного. – От живота второй год помирает.
– Чучень? Это что ж – прозвище?
– Прозвишша…
– Глупо! – сказал Кузьма.
И отвернулся, чтобы не видеть девчонки возле следующей избы: она, перевалившись назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально глазела на проезжих и, высовывая язык, нажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба… А на крайнем гумне гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми рукавами. Гумно, что выходит в степь, всегда неуютно, скучно, а тут еще это пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, заросшему лебедой и чернобыльником, возле риги с раскрытым хребтом…
Лесок, синевший на горизонте, – две длинных лощины, заросших дубняком, – назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под селом вскачь, а Кузьма, зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретьем. Руки костенели от стужи, за ворот чуйки текли ледяные струйки, отяжелевшее под дождем веретье воняло прелым закромом. В голову стучали градины, летели лепешки грязи, в колеях, под колесами, шумела вода, где-то блеяли ягнята… Наконец стало так душно, что Кузьма отшвырнул веретье с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому выгону бежало к избам стадо. Тонконогая черная овца отбилась в сторону, и за ней гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми икрами, босая баба. На западе, за селом, светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче, над хлебами, стояли две зелено-фиолетовых дуги. Густо и влажно пахло зеленью полей и тепло – жильем.
– Где тут господский двор? – крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубахе и красной шерстяной юбке.
Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. Девочка голосила с невероятной пронзительностью.
– Двор? – повторила баба. – Чей?
– Господский.
– Чей? Ничего не слыхать… А, да захлебнись ты, родимец те росшиби! – крикнула баба, дернув девочку за руку так сильно, что та перевернулась.
Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо и мимо чьей-то старосветской усадьбы с забитым наглухо домом стали спускаться под крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меньшова падали капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма. На том боку, на покатом выгоне – темный казаковский сад, широкий двор, обнесенный разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя засохшими елками, – обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у моста, – кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами, стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: «Н-но! Н-но-о!» А мужики с гоготом и свистом подхватывали: «Тпру! Тпру!» И отчаянно простирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными слезами на длинных ресницах. Отчаяние было и в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и суконном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с кротким любопытством озирались дети – мальчик и девочка, бледные, закутанные в шали.
– Это Мишка Сиверский, – громко и сипло сказал Меньшов, объезжая тройку и равнодушно глядя на детей. – Его сожгли вчерась… Видно, стоит того.
Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек рослый и грубый. К нему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокро-зеленой травой. У старосты случилось в этот день несчастье – умер ребенок, – и встречен был Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к людской, заплаканная, серьезная старостиха несла от сада ря́бую курицу, смирно сидевшую у нее под мышкой. Среди колонок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостиху, крикнул:
– Агафья, кудай-то ты ее несешь?
– Резать, – ответила старостиха серьезно и печально.
– Дай-ка я зарежу.
И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова начавший накрапывать с насупившегося неба. Отворив дверь ледника, он взял с порога топор – и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с красным обрубочком шеи, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек кинул топор и направился к саду, а старостиха, поймав курицу, подошла к Кузьме:
– Тебе что?
– Насчет сада, – сказал Кузьма.
– Федор Иваныча подожди.
– А где он?
– Сейчас с поля приедет.
И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он заглянул туда, увидел в полутьме печь, нары, стол, корытце на лавке у окна – гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком… За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два столба с перекладиной, на перекладине, как икона, висела большая чугунная доска: значит, по ночам боялись, били в нее. По двору валялись худые борзые собаки. Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке белоголового бурдастого братишку в большом черном картузе – и тележка неистово визжала. Дом был сер, грузен и, должно быть, чертовски скучен в эти сумерки. «Хоть бы огонь зажгли!» – подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть не год тому назад…
А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито сказал, что «сад давно сдаден», а на просьбу о ночлеге только нагло изумился. «Однако ты умен! – крикнул он. – Постоялый двор какой нашел! Много вас теперь таких шатается…» Но смилостивился – разрешил ночевать в саду, в бане. Кузьма расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных раскрытых окон, из-за железных сеток от мух, гремел рояль, покрываемый великолепным голосом, затейливыми вокализами, совершенно не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе. По грязному песку покатой аллеи, в конце которой, как на краю света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме темно-рыжий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тяжелых сапогах.
– Ишь, ишь! – насмешливо говорил он на ходу, прислушиваясь к вокализам. – Ишь, раздолевается!
– Кто раздолевается? – спросил Кузьма.
Мужичок поднял голову и приостановился.
– Да баггчук-то, – весело сказал он, сильно картавя. – Говорят, семой год так-то!
– Это какой же, – что курицу рубил?
– Н-нет, другой… Да это еще что! Иной раз как примется кричать: «Нонче ты, завтра я» – прямо бяда-а!
– Учится, верно?
– Хороша ученье!
Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками – ястребиные. Опустит веки – обыкновенный дурачок, поднимет – даже жутко немного.
– Ты в саду сидишь? – спросил Кузьма.
– В саду. А то где же?
– А как тебя зовут?
– Меня-то? Аким… А тебя?
– Я сад хотел снять.
– Вона… хватился!
И Аким, насмешливо мотнув головой, пошел своей дорогой.
Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с ярко-зеленых деревьев; за садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забытье, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах. Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!
Их было трое. И все были больны. Один, молодой, бывший пекарь, теперь босяк, жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он говорил, что ему ничего, «только промеж крыльев холодит»; Аким страдал «куриной слепотой» – от худосочия плохо видел в сумерках. Пекарь, бледный и ласковый, сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках и, засучив на худых, слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке пшено. Чахоточный Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темнолицый, весь в мокром отрепье и опорках, сбитых и жестких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря и, подняв плечи, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, глядел на его работу. Аким притащил ведро и разводил, поддувал в земляной печурке против шалаша огонь. Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы посуше и опять шел к пахуче дымившему под чугуном костру, все бормоча что-то, дыша со свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтруниванья сотоварищей, зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпаемый ледяными брызгами, когда по аллее под сумрачным, вздрагивавшим от бледных зарниц и рокочущим небом проносился сырой ветер. Под ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось, никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, и самому придется жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики… И раздражали порывы ветра, дальний однообразный гром, соловьи и медлительная, небрежно-едкая картавость Акима, его скрипучий голос.
– Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то купил, – притворно-просто говорил пекарь, труня и поглядывая на Кузьму, – приглашая и его послушать Акима.
– Вот погоди, – рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из закипевшего котелка пенистую жижу. – Вот отживем у хозяина лето – сапоги тебе со скрипом куплю.
– «Со скггипом»! Да я у тебя не прошу.
– А сам в опорках!
И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу.
Пекарь смутился и вздохнул:
– Уж где нам сапоги носить!
– Да будет вам, – сказал Кузьма, – вы вот лучше скажите, как вы тут коштуетесь. Небось каждый день все кулеш да кулеш?
– А тебе что ж – рыбки, ветчинки захотелось? – спросил Аким, не оборачиваясь и облизывая ложку. – Она бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового… А это не кулеш, а называется реденькая кашка.
– А щи, похлебку варите?
– У нас, брат, были они, щи-то, да какие еще! На кобеля плеснешь – шерсть соскочит!
Кузьма покачал головой:
– А ведь это ты от болезни так зол! Полечился бы, что ли, маленько…
Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугуном краснела горка угольков; сад темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на палку, пекарь – на пне под липой. Услыхав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.
– А я так полагаю, – сказал он покорно и грустно, – что не иначе как все Господь. Не даст Господь здоровья, так никакие доктора тебе не помогут. Вон Аким правду говорит: раньше смерти не помрешь.
– Доктора! – подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это слово: дохтогга!.. – Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то энтому, кишки за его дела выпустил!
– Не все блюдут, – сказал Кузьма.
– Я всех не видал.
– Ну и не бреши, если не видал, – строго сказал Митрофан.
Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкатив свои ястребиные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью идиота:
– Что? Это я-то не бреши? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь дён сидел, – много он мне булок-то давал, дохтор-то твой? Много?
– Да дурак, – перебил Митрофан, – булки не всем же полагаются: это по болезни.
– А! По болезни! Ну и подавись он ими, пузо его лопни! – крикнул Аким.
И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в «реденькую кашку» и пошел в шалаш.
Там он, со свистом дыша, зажег лампочку, и в шалаше стало уютно. Потом достал откуда-то из-под крыши ложки, кинул их на стол и крикнул: «Несите, что ль, кулеш-то!» Пекарь встал и пошел за чугунчиком. «Милости просим», – сказал он, проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолил его и, с наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могильной чернотою. Соловьи смолкли, – сладко и сильно цокал и рассыпался только один – над самым шалашом. «Даже и не спросили, кто я, откуда? – думал Кузьма. – Народ, пропади он пропадом!» И шутливо крикнул в шалаш:
– Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда?
– А на что ты мне нужен-то? – ответил Аким.
– Я вот его о другом спрашиваю, – послышался голос пекаря, – сколько он от Думы земли чает получить? Как думаешь, Акимушка? А?
– Я не письмённый, – сказал Аким. – Тебе из навозу видней.
И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.
– Это он насчет нашего брата, – заговорил Митрофан. – Я рассказывал как-то, что в Ростове бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается…
– Выйдет за город, – радостно подхватил Аким, – и – в навоз! Зароется не хуже свиньи, и горя мало.
– Дурак! – отрезал Митрофан. – Чего гогочешь? Застигнет бедность – зароешься!
Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова с внезапной запальчивостью раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:
– A-а! Бедность! По часам захотел работать?
– А как же? – бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в упор глядя на Акима блестящими глазами. – Двадцать часов за двугривенный?
– A-а! А тебе бы час за целковый? Дюже жаден, пузо твое лопни!
Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже спокойно говорил, обжигаясь кулешом:
– Это он-то не жаден! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите ли – жену за пятиалтынный продал! Ей-богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть такой старичок, Панков прозывается, тоже прежде садовничал, ну а теперь на покое и очень любит это дело…
– Аким, значит, тоже липецкий? – спросил Кузьма.
– Из деревни Студенки, – равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.
– При брате живет, – подтвердил Митрофан. – Землей, двором сообча владеет с ним, но только все-таки вроде как заместо дурачка, и жена от него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала – как раз от этого от самого: сторговался с Панковым за пятиалтынный, чтоб пустить его, заместо себя, ночью в клеть, – и пустил.
Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, утерся и теперь что-то думал.
– Брехать, малый, не пахать, – сказал он наконец. – А хоть бы и пустил: ай она слиняет?
И, прислушиваясь, осклабился, поднял брови, и его суздальское личико стало радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами.
– Вот бы из ружья-то его! – сказал он особенно скрипуче и картаво. – Так бы и кувыркнулся!
– Это ты про кого же? – спросил Кузьма.
– Да про соловья-то этого…
Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:
– А стерва ты мужик. Зверь.
– Поцелуй меня в ж… теперь, – отозвался Аким. И, икнув, поднялся. – Ну, что ж даггом огонь-то жечь?
Митрофан стал завертывать цигарку, пекарь – убирать ложки, а он вылез из-за стола, повернулся к лампочке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с размаху поклонился в темный угол шалаша, встряхнул мочальными прямыми волосами и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на какие-то тесовые ящики и переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился – и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится – и попробуй-ка спросить его, верит ли он в Бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!
Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, ныли холодные ноги, сжатые грязными сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста. Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким дунул на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных елок, где стояла баня, и вдруг залила все такой чернотой, что закружилась голова. И опять где-то низко загремел дальний гром. Постояв и различив тусклый просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролегавшую вдоль вала, мимо шумящих старых лип и кленов, и стал медленно ходить взад и вперед. На картуз, на руки опять посыпался дождь. И опять глубоко распахнулась черная тьма, засверкали капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой тонкошеей лошади. Бледное, металлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью на чернильном фоне, а лошадь подняла голову – и Кузьме стало жутко. Он повернул назад, к воротам. Когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь обрушился на землю с такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потопе. Он дернул спичкой, увидал широкие нары возле окошечка и, свернув чуйку, кинул ее в изголовье. В темноте влез на нары и с глубоким вздохом растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже мой, какая нелепая и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме теперь тоже тьма, и зарницы на лету, украдкой отражаются в зеркалах… В шалаше, под проливным дождем, спит Аким… Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей; верит ли Аким хоть в черта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает о том, как его покойник-дед – непременно дед и непременно покойник – пошел раз в ригу за хоботьем, а черт сидит себе на водиле, ножки переплел, лохматый, как собака… И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать…












