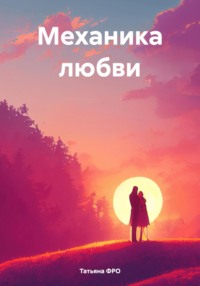Полная версия
Каждый пред Богом наг
С деньгами становилось всё беднее, и Наташа вышла на прежнее место работы, хотя и НИИ этот, когда-то хорошо питающийся от оборонки, уже загибался, хотя зарплатки ещё какие-то выдавали, и работками ещё какими-то обязывали, но выбора у Наташи не было, хоть так…Лёлю отдала в детский сад со всеми вытекающими из этого рядовыми последствиями вроде перманентных детских болезней, горьких детских слёз от детсадовских обид, но больничные по уходу за больным ребёнком бедный, чахнущий НИИ всё же оплачивал.
Лёля росла и именно в прекрасные черты Игорева лица, черты как будто с полотен художников Возрождения, и перелилась незаметно её внешность с началом её отрочества, и от страшненькой маленькой девочки, так походившей в детстве на страшненькую лицом маму, постепенно не осталось ничего, а явилась, становясь всё явственней, как будто совсем юная Мадонна то ли Рафаэля, то ли Перуджино, а внутри этой юной Мадонны теплился неугасимый нежный свет чистоты и отзывчивости, так явно доставшийся ей от мамы. Юная Лёлька искренне, вовсе не прикидываясь и не кривляясь, не осознавала своей чудесности, и на все юные сполохи яркой влюблённости в неё мальчишек отвечала искренним добросердечием, также искренне не понимая, что тяжело влюблённым в неё мальчишкам нужны совсем от неё иные чувства, а вовсе не добросердечие и чуткость – это не нужно! А Игорь точно знал, что измордует в кровь любого, кто обидит его девочку, его Лёлю, и ведь и правда измордовал бы, даже и несовершеннолетнего – хорошо, что повода не возникло.
А ведь в детстве и раннем отрочестве Лёля была настолько страшненькой и неуклюжей, какой и мама её была в своём детстве, что дети, очень жестокие существа, не хотели, чтобы она хоть как-то участвовала в их играх, особенно в детском саду, издевались над ней, но…для всех её ранних горьких слёз и ран у неё рядом всегда была мама, которая как невидимым коконом обволакивала Лёлю любовью, и изощрённые детские жестокости не проникали в Лёлину сначала совсем маленькую, но с годами растущую и расцветающую душу, так бывает, когда непривлекательный, едва заметный, страшненький с виду бутон невидимо, в глубине, втайне от всех наливается чудесными соками и красками и однажды распускается…
А Наташа была для дочери таким камертоном, который безошибочно отзывался на любой звук Лёлиной, даже едва ещё только распускающейся души, и именно Наташа сумела не дать Лёлиной ране от ухода Игоря сделаться кровоточащей и незарастающей на всю будущую Лёлину жизнь, Наташа сумела найти для 5-летней своей доченьки такие понятные и простые слова о разверстой пропасти между мамой и папой, об уходе папы, что для Лёли разъезд родителей не перерос в чёрную трагедию, тем более, что папа часто к ним приходил, причём, что важно – всегда трезвый, и мама всегда его радушно и хлебосольно встречала, он очень много времени проводил с Лёлей, много с ней разговаривал обо всём на свете (его богатейший интеллект каким-то образом оставался в нём жив, алкоголь не мог его расплющить), много ездил с ней по всяким интересным, в том числе и для маленькой девочки, местам, да и мама часто ездила вместе с ними: то они в Музеоне весь день, где можно любую скульптуру трогать руками, а, если очень понравится, то и обнять, а то и лазить по ней, причём папа про эти скульптуры много любопытного рассказывал, то они на дизельной подлодке все углы обшаривают, все закоулки рассматривают, то они в японском садике в Ботаническом саду, то на Солярисе в АртПлей, то в захватывающих душу разных павильонах ВДНХ, то поедают сногсшибательные пирожные в жутко исторической Булошной на 5-ти углах невдалеке от Покровки и Чистых прудов, то....да где они только ни побывали, что только ни смотрели-разглядывали…То есть, маленькая Лёля очень быстро перестала ощущать трагизм в том, что папа теперь не жил вместе с ними, а лишь приезжал, зато часто и всегда это сулило что-нибудь дико захватывающее. Это притягательное и очень любовное отношение Лёли к отцу осталось у неё на всю её жизнь, но лишь во взрослости она поняла, как много вложила в это отношение её мама.
Вообще Лёлька получилась как будто единичная авторская работа то ли небес, то ли природы, то ли ненормальных её мамы и папы, то ли ещё кого-то небесно неведомого. Она никак не вписывалась в табун своих ровесников: они уже с 12-13 лет разговаривали друг с другом только матершиной, Лёлька – никогда, ни разу. Сверстники её почти постоянно, на ходу ли, сидя ли на уроках в школе, были уткнуты в свои смартфоны, Лёлька ни за что не позволяла себе уткнуться в свой смарт при учителе, вообще при человеке, который им что-то рассказывает или просто говорит. Её одноклассники в жуткие годы отроческой ломки чуть ли ни ненавидели своих родителей, на любые мнения которых по любому поводу, вопросу плевали открыто, демонстративно, они – ничего не читали, кроме чудовищно безграмотных и жутко тупых сообщений друг другу, кроме чудовищно дебильных соцсетей, ничего не слушали, кроме до крайности дебильных блогеров, Лёлька же, не гнушаясь и перепиской в чатах, запойно читала в электронной книге и родных, и импортных авторов, и классиков, и современников, и для Лёльки даже в этот жуткий период взросления мама и только мама стала настоящей и единственной подругой, перед которой она не боялась быть собой в любом проявлении, то есть даже в те годы, когда дети начинают люто ненавидеть своих родителей ни за что-то, а просто так – за то, что вечно лезут в их взрослеющие дела, за то, что вечно лезут со всякими своими требованиями, вопросами, наставлениями, за то, что не дают им жить в свои 13, 14, 15 и более лет так, как хочется, да и вообще за то, что они, родители, вообще есть и деваться от них некуда. Этим отрокам не приходило в башку, что, будь они без родителей, то есть, сиротами, они бы совершенно по иному смотрели на всё. И вот при том, что Лёлька ненавидела быть как все, делать всё, как все, вести себя, как все, не выносила бегать в табуне – при всём этом она почему-то не стала изгоем среди ровесников, одноклассников, даже наоборот – они невидимо то ли преклонялись, то ли втайне крепко завидовали её пиратской независимости, её чуть ли не детской и такой нескрываемой любви к маме да и к папе тоже, и они втайне жаждали быть отмеченными, выделенными среди остальных именно этой, такой независимой от них девчонкой. Лёлька не чуралась никого, ко всем была одинаково ровно открыта, была от чтива и от природы поразительно остроумна и весела, а уж когда начинала что-то рассказывать, то целые табуны вокруг неё собирались и гоготали, как молодые жеребцы – так она умела не просто рассказать какую-то совсем простую житейскую сценку, но умела изобразить её в лицах с разными интонациями: то, как на улице два попавшихся навстречу кришнаита уговаривали её купить книгу знаний или то, как цыганки обступили её и лезли погадать, ведь они не знали, что денег у неё – голый кукиш, да и много чего ещё, причём именно самые бытовые ситуации на улице ли, в метро ли. Повторить её историйки не получалось ни у кого, так артистично, так ярко она всё изображала в лицах. И хотя она привыкла чувствовать себя королевой, что было посажено в ней чуть ли не с рождения мамой, она, как ни поразительно и ни парадоксально, тем не менее не стала высокомерной, чванливой, хотя некоторые, особенно, сверстницы именно таковой её и называли и всячески это своё отношение демонстративно выказывали, но Лёля просто не обращала на это внимания. Не было в ней надменности, презрения, заносчивости, чванливости, гонора, ну, хоть убей – не было, не поселились.
Наташа очень трезво понимала, что, если в школьные года Лёльку необъяснимо миновала первая любовь, которая у всех именно в эти годы шарахает по мозгам кувалдой, то она всё равно настигнет её девочку рано или поздно, это неминуемо, от этого не может удрать ни один человек на свете, потому что «…любви прозрачная рука Однажды так сжимает сердце, что розовеют облака, и слышно пенье в каждой дверце…». Наташка знала: грянет и ещё как, не знала только когда именно, и от этого, только от этого она уже заранее паниковала, она совсем не знала, как повести себя тогда, когда это всё же случится, чтобы её Лёлька не пропала зазря…А ведь страшнее первой любви только последняя…А ещё смертоносней и губительней та первая любовь, которая, проскакивая обязательную ступень в отрочестве, нападает на уже повзрослевшего человека лет эдак с 18-ти, а уж если вообще после 20-ти лет – почти наверняка искалечит на всю оставшуюся жизнь. Но у любви нет никаких законов и обязанностей, она приходит и уходит, когда ей вздумается, а уж предсказать её приход совершенно невозможно. Как, почему первая любовь не схватила Лёльку за растущее её сердечко тогда, когда всех без разбора отроков хватает? Так необъяснимо бывает, когда человек, не ведая о том, что идёт по минному полю, проходит его спокойно от начала до конца.
До оторопи, до почти полной бессоницы трепетала Наташа от того, что Лёля, когда её рано или поздно настигнет жуткое пугало первой любви, наложит на себя руки, как было с одной, ушедшей в давнее, молодое прошедшее, сотрудницей, которую намертво раздавил гигантский груз её неразделённой любви к сотруднику. Наташа теряла мозг при мысли о том, что Лёля может найти отдушину в наркоте или алкоголе, тяжко было само осознание того, что Наташе здесь неподвластны никакие рычаги: ни откровенные разговоры, ни уговоры, ни доводы умного рассудка, ни примеры из жизни – всё будет тусклым, пустым и никчемным, наверное, просто надо будет всегда быть рядом с Лёлькой, когда этот кошмар накроет её девочку, просто быть рядом и всё.
И чем спокойнее тянулось всё Лёлькино отрочество, в котором не взбулькнул ни разу всплеск юных, обычно бешено бушующих гормонов (как будто у Лёли эти гормоны ещё спали в анабиозе, когда у всех её ровесников они уже вовсю бушевали), тем сильнее и больнее натягивались жилы Наташиного сердца в преддверии неминуемого ожидания такового всплеска в ближайшей доченькиной юности: Наташа знала точно, безоговорочно, что то, что психика организма не пережила вовремя, то есть тогда, когда по всем биологическим параметрам организму полагается пережить, это обязательно настигнет несчастный организм позже, но это уже будет не всплеск гормонов, а всё сметающее на пути цунами, и вот именно этого трепетала Наташа. Это сродни тому, что не переболев корью в детстве, взрослый человек болеет ею несравнимо тяжелее, чем дети.
Наташа ушла из своего родного НИИ, работа в котором стала больше походить на благотворительность, и устроилась библиотекарем в крутую школу-лицей, где как раз и училась Лёля, и тут прекрасно сошлось всё: очень даже нехилый заработок, Лёлька можно сказать почти всё время на виду у Наташи, близость лицея к дому, неиссыхающая любовь Наташи к чтиву (а читала она запойно и современных авторов, и классиков, и отечественных и импортных, легко и свободно плавала в книжном океане, и могла с ходу обрисовать того или иного автора, его стиль, его нынешнее место в литературе, независимо от своих личных предпочтений или чувства брезгливости к некоторым, так сказать, писателям), так что работа в библиотеке была специально как будто для неё и создана, да и преподавательский коллектив, несмотря на дикую разношёрстность, всё же оказался весьма в целом высокого уровня интеллекта. Те денежки, которые как-то зарабатывал и приносил им Игорь, были как слёзки насекомого. При лицейском же нехилом заработке в очень гнилые и хилые годы Наташа могла спокойненько оплачивать не только обучение Лёли в крутом лицее, но и танцевальную студию, в которой Лёля занималась аж с 6 лет. Таким манером Наташа держала под прицелом даже не двух, а сразу нескольких, жизненно важных лично для неё зайцев: во-первых, она всегда могла знать местонахождение своей Лёли, тем более, что Лёльку такое положение вещей совершенно не смущало, не стесняло, не унижало и даже бывало порой удобно, потому что она всегда могла прибежать к маме в библиотеку, когда нужно было что-то сказать, спросить, уведомить о чём-то. Во-вторых, совсем немалый заработок позволял Наташе ещё и постоянно пополнять банковский вклад на Лёлю, который она открыла очень вскоре после рождения дочери в государственном банке. В-третьих, Наташе ко всему прочему нравилась работа библиотекаря, потому что она сама очень много читала и импортного, и родного чтива, как современного, так и классического, и ей нравилось, выдавая книги, разговаривать о книгах со школярами всех возрастных мастей. В-четвёртых, оказалось, что ей очень уютно вариться в преподавательском коллективе лицея при всей его разношёртности, неминуемых в любом коллективе мелких или крупных конфликтах…всё равно ей было в той среде уютно, потому что люди с интеллектом, даже ругаясь, никогда не переходят незримую черту, за которой расцветает махровое хамство: злобное, чернющее хамло – это всегда (и исключений здесь нет!) биологические особи на уровне плинтуса, которые, как ни сожалей об этом, но необходимы для биологического равновесия – так уж устроен мир, причём устроен не людьми, а кем-то неведомым свыше. Ну, и наконец в-пятых, совсем уж на бытовом уровне, лицей находился в двух шагах от дома, кроме того, можно было всегда выбежать за продуктами – тоже рядом. А образование лицей давал отрокам блистательное – благодаря высочайшему профессионализму преподавателей. Лёля сначала училась в гуманитарном классе, причём училась с кайфом, с наслаждением – уж очень хотела свободно заговорить сразу на 2-х языках: английском и французском, потом добавила факультативно ещё и итальянский: она обожжжжала эти языки, и они как будто чувствовали её обожание и давались ей настолько легко, что француженка и итальянка даже спросили её как-то, не изучала ли она эти языки когда-нибудь раньше? Наташа ничем не могла ей в этом помочь, потому что и школьный-то свой английский еле-еле помнила…Но в 7-ом классе Лёля так вдруг «заболела» набирающей силу и моду биоинженерией, что перешла в биологический класс и больше уже ничего другого не хотела. Наташа приняла это со спокойным пониманием и поняла, что через год надо будет найти для Лёли самых классных репетиторов, не жалея на то никаких денег, для поступление на факультет биоинженерии МГУ.
Из всех зарабатываемых денег Наташа на себя, на свои едальные и всякие простые бытовые потребности тратила нищенский минимум, впритык, но обязательно пополняла тот давний сберегательный счёт банка, который открыла втайне даже от Игоря вскоре после рождения Лёльки, для Лёльки, и с тех пор не взяла оттуда ни рубля, лишь сократила пополнения, когда много денег стало требоваться на Лёлину танцевальную студию, а позже, за 2 года до окончания дочерью школы – на необходимых репетиторов для поступления Лёли на факультет биоинженерии МГУ, о чём дочка бредила до такой степени, что даже на какое-то время забросила танцевальную студию, без которой она вроде бы не могла жить…
За 18 без малого лет на Лёлином сберегательном счёте накопилась внушительная сумма, но Наташа даже Лёле об этом не говорила: трусила в самой глубине души, что дочь вдруг начнёт клянчить хотя бы часть этих денег, уверять, что это вопрос жизни и смерти…короче – молчала мёртво.
Лёля поступила на биоинженерный факультет МГУ легко, играючи, и Наташа, может быть, впервые в жизни, мысленно погладила сама себя по головке и сама же себе ни для кого неслышно сказала: «Ты молодчинка, Наташка, ты всё-всё сделала правильно…».
Девочка мечтала о работе в области эволюционной геномики и училась прекрасно не от зубрёжки, а от страсти к знаниям, к сияющей вожделенной мечте. У неё с первого же семестра учёбы была повышенная стипендия, и тогда же она сразу устроилась на полставки на кафедру – на какую работу взяли, на ту и согласилась, но уже к концу 1-го курса её стали потихонечку привлекать к научной работе кафедры, и она чуть не визжала от восторга, всё больше влюбляясь в выбранную специальность.
И вот тут – грянуло. И хотя Наташа давным-давно уж внутренне вся сжималась в ожидании неуминуемого этого, но когда это грохнуло, оно почему-то оказалось неожиданным, как удар кувалдой. Именно там, на кафедре Лёля познакомилась с Эльдаром, который уже заканчивал аспирантуру и после защиты кандидатской безоговорочно планировал уехать в родной Дагестан и там развивать дальше свою научную деятельность, потому что не мыслил своей жизни без родной земли, без науки и без семьи, а наукой он занимался с наслаждением, с азартом, забывая о времени. Он был очень красив, и в том, как он держался не только с сотрудниками, но с любым человеком, а уж с женщинами – особенно, был совершенно не наигранный, не публичный, а какой-то то ли врождённый, то ли вложенный воспитанием спокойный и блестящий аристократизм. За свои 19 лет Лёля умудрилась ни разу не влюбиться так, чтобы только перья во все стороны полетели, а уж сколько было в неё по уши влюблённых, сходящих с ума от любви к ней ещё со школьных лет – и не сосчитать. Ко всем ним она относилась очень дружелюбно, но полюбить почему-то не смогла никого из них, и это в том возрасте, когда все остальные от бесящихся юных гормонов влюбляются на смерть, а Лёлю вот миновало. Именно это и пугало и страшно настораживало её маму, потому что Наташа точно знала, что чем позже настигнет первая в жизни любовь, тем кровопролитнее она будет, но она сама произвольно, без всяких законов решает, когда и кому сжать сердце до «розовых облаков». То что схватило Лёлино сердце совсем не было любовью с первого взгляда, совсем. Лёля и сама не поняла, как она умудрилась не влюбиться, неееет, а именно полюбить. В эту первую в своей жизни любовь, позднюю первую любовь, Лёля ступила, как в чарусу, не зная, что это чаруса, которая затягивает жертву медленно и безвозвратно, всё глубже и глубже, но не было ни страха, ни желания выкарабкаться. И если бы кто-то напрямую спросил её «Что ты в нём так полюбила?», она бы вообще не нашлась что ответить – не знала.
Лёлька чуть только не поселилась на кафедре – чтобы видеть Эльдара всегда, обсуждать с ним научные проблемы, дома же, в долгие праздничные дни она не находила себе места, но – она начисто потеряла аппетит, даже ночной, до которого прежде была большая охотница, теперь же она литрами глотала кофе и воду, почти потеряла сон, лишь впадая в полное прыгающих видений прерывистое забытьё то дома, то в общественном транспорте, проезжая нужные остановки, и совсем уже близко подошла к той грани, за которой начинается тихое безумие. Она больше не хотела видеться с друзьями, не ходила ни на какие студенческие весёлки, забросила танцы, без которых прежде не могла жить, и она совсем перестала разговаривать с мамой, с мамой (!), которая была для неё лучшей подругой её маленькой жизни. Наташа смогла лишь по мелким кусочкам, вытягивая их в разное время то хитростью, то обманом, сложить кое-как уродливый паззл и – ужаснулась тому, что увидела ! Её дочь, её Лёлька, её маленькая девочка влюбилась в парня-мусульманина…
Ах, если бы только можно было внедриться вглубь мозга, найти, увидеть в устройстве и работе этого тончайшего, сложнейшего механизма ту крохотную клеточку, которая одной лишь своею малостью заставляет человека терять всего себя от любви, увидеть эту клеточку любви…Наташа даже не думала, а точно знала, что она бы вырвала эту клеточку из сложного сплетения мозга своей Лёли, вырвала бы и всё! И однажды она, в упор глядя на дочь, спросила: «Кто он?», и Лёля, исхудавшая, пострашневшая от терзавшей её любви, тихо ответила: «Мама, я люблю Эльдара…Он мусульманин, мама, и, если ты мою любовь отвергнешь, то я лучше уйду от тебя, я отрекусь от православия и приму его ислам, если он так мне скажет, но я не отрекусь от него, потому что я люблю его…Я пойду за ним, куда угодно, и, если он велит мне, то я приму его веру…». Вот тогда-то впервые в жизни Наташа мерзко взвизгнула, как будто лезвие гильотины обрушила: «Только через мой труп!!!!», и в тот же миг поняла, что наступила на минную перетяжку (чего в реальной жизни вовсе не знала), но осознание было именно такое и очень страшное, что стоит сделать лишь ещё шаг и рванёт всё в клочья так, что больше она свою Лёльку не увидит уже никогда, и слова, уже совсем готовые рвануть страшную перетяжку «Будь ты проклята! Ты мне больше не дочь!», комом застряли в горле, и Наташа вдруг с ужасом увидела себя со стороны, с ужасом увидела, что в этот миг она ненавидит свою любимую, такую ненаглядную доченьку…Ну, а потом было вот это: она проглотила жуткие, несказанные слова и от их смертельного яда побелела лицом и руками. Лёля страшно испугалась, подхватила маму, оттащила на кухню, влила ей сквозь синие губы валокардин, потом села напротив неё, взяла её руки в свои, уткнулась в них и затихла. Сколько времени они так просидели? Они не знали. Наташа не плакала, ни слёзки не проронила, поцеловала долгим поцелуем мягкое пушистое девичье темечко дочери и прошептала: «Лёлечка моя, пока лучше уходи…».
А ведь Эльдар не давал Лёльке никаких поводов, никаких знаков для развития любви, он всегда был с ней так же приветлив, внимателен и отзывчив, как и со всеми остальными сотрудницами, но не мог же он не видеть, что девчонка-студентка с ума сходит от любви к нему: Лёля изо всех силёнок комкала и прятала свою любовь, она не понимала, что её всё равно видят все окружающие, в том числе и сам Эльдар, не понимала, что спрятать любовь невозможно, как её ни комкай, как ни запихивай в тёмный угол души. Лёля знала, что, если бы он только поманил её, она готова была бы уехать с ним, за ним куда угодно, даже в чужой, неведомый и далёкий Дагестан, который Эльдар боготворил, готова, если так надо будет, отречься от православия и принять ислам, хотя она совсем не представляла себе, что такое в реальности жизнь настоящей женщины-мусульманки. Она даже маму, любимейшего своего человека на свете, готова была оставить…
Эльдар при всём его радушии и кажущейся открытости был на деле очень закрытым человеком: он никому не рассказывал о своей личной жизни и о своей семье, все знали лишь, что он боготворит своих мать и отца, что имеет он тучу разнокалиберных родственников, которые часто без повода присылали ему посылки с потрясающими домашними вкусностями, которыми он и угощал сотрудников.
Вот что Наташа точно знала, так это то, что вытянуть из чарусы не сможет жертву никто, что помочь здесь ничем нельзя, что первой любовью надо переболеть как ветряной оспой или коклюшем, но давно известно, что, если не переболеть детскими болезнями именно в детстве, то во взрослости эти же детскости наваливаются страшным кошмаром.
А потом Лёля ушла в свою комнату и покидала в большой чемодан какие-то свои манатки…Наташа опять стояла в коридоре, стояла ледяной глыбой, статуей, она не плакала, и глаза у неё были стеклянными. Уже распахнув входную дверь и выставив наружу отвратительно опухший чемодан, дочь взглянула на маму, взяла её ледяные, ни на что не реагирующие руки в свои, уткнулась в них лицом и сказала в эти руки: «Мама, мама, не ищи меня, ты меня не найдёшь. Я сама буду тебе звонить, но я сразу узнаю, если с тобой что-то случится, поверь – узнаю, и я сразу приеду…». И ушла, закрыв за собой дверь тихо и мягко, так выходят, когда дома лежит тяжелобольной или покойник. А Наташа, не ощущая течения, потока времени всё стояла и стояла, окутанная коконом пустоты и ощущением смерти.
Из лицейской библиотеки, где она продолжала работать даже после окончания Лёлей лицея, Наташа уволилась сразу, как ни уговаривали, уволилась, наворотив три короба такой крутой, но очень правдоподобной лжи, что её всё же отпустили, попросив доработать хотя бы одну неделю, чтобы можно было найти новую библиотекаршу: невыносимо было даже самое сознание необходимости видеть ежедневно и коллег-преподавателй, и юных лицеистов, разговаривать с ними, что-то объяснять, советовать…
Она почти перестала есть, но много пила воды из-под крана, даже чай не заваривала, почти не спала – лишь проваливалась то днём, то ночью в мелкое, горячечное и прерывистое забытьё на час, на два и выныривала сразу, рывком, хотя её никто не будил. Она совсем не брала трубку мобильника, как бы настойчиво он ни трезвонил, она даже не смотрела на номер вызова. Читать забросила вовсе, а ведь без книг не могла ни жить, ни дышать, однажды открыла начатую ещё до того книгу, новый полубредовый роман современного отечественного, так сказать, автора…с таким же успехом она могла смотреть в пустоту, зачем-то размахнулась и влепила бедного ультрапопулярного автора в стену, как если бы залепила ему смачную оплеуху, хотя автор этот ни в чём не был виноват, ну, разве что лишь в удушающей его, смачного бедолагу жажде земной славы и неохватных, немереных настоев бабла, да и то сказать: разве это вина его? Это же всего лишь блажь трепещущего маленького полуидиотика. Больше Наташа не взяла в руки ни одной книги. Промелькнула отчётливая мыслишка покончить со всей этой жизнью каким-нибудь простым и безболезненным способом, самый простой из которых – заглотить сразу две упаковки крепкого снотворного, на который даже и рецепт не нужен. Но – значит никогда, НИ-КОГ-ДА больше не увидеть Лёльку, свою Лёльку?! Нет, нет! Всё что угодно, но только не это. И вдруг внезапной вспышкой решила: надо устроиться на такую работу, где мозгам, то есть, работе мозга со всеми его воспоминаниями, калёным отчаянием, рвущей в куски болью души не останется ни времени, ни места. А организм у неё, видимо, от природы был крепким: не случилось ни инсульта, ни инфаркта.