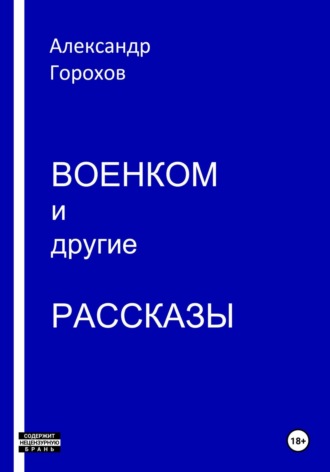
Полная версия
Военком и другие рассказы
– Примите мои соболезнования, – сказал Витя, нагнулся под лавку, жикнул замком и вытащил новую, запечатанную бутылку. – Надо помянуть хорошего человека.
– Я ему помяну! – снова ответила за меня сестра.
Пришла четвертая пассажирка. Она успела умыться, переоделась, сверкала губной помадой, пахла зубной пастой, фальшивыми французскими духами, прелыми железнодорожными простынями и угольным дымом.
– Витёк, сучонок, я тебе сейчас твою поганую пасть зашью вместе со стаканом!
– Жена! – похвастался мне Витёк.
– Красивая, – также лаконично ответил я.
– Моя! – снова похвастался Витёк.
Жена была похожа на гусеницу из мультфильма. Кофточка плотно обтягивала грудь и, такие же по размерам, три живота под ней. Ярко-красные, пухлые губы и огромные накладные ресницы дополняли сложившийся сам собой образ.
– Сучок! – снова прошипела красавица и треснула муженька косметичкой.
Витёк увернулся и пояснил:
– Бьет, значит, любит.
– Когда только успел налакаться? Отошла всего на минуточку.
Довольный похвалой Витёк счастливо улыбался.
– Моя жена! – снова объяснил он нам с сестрой.
– Вроде приличный человек. Писатель, а на деле алкаш алкашом! – говорила гусеница. – За что мне это наказанье Господне? Сейчас едем с конференции литературной. Этому козлу премию дали сто тысяч и бронзовую статуэтку. Так он третий день не просыхает. Просто кошмар какой-то. Даже билетами путевыми заниматься не захотел. Еле эти достали. Там хлебал с дружками-писателями и тут никак не остановится.
Убью! – жена снова саданула Витька косметичкой и опять промахнулась.
Потом собрала его и свои простыни, полотенца, наволочки и пошла сдавать проводникам.
Витек снова нырнул в сумку и для ускорения процесса заглотнул водку из бутылки.
– А вы правда писатель? – от нечего делать спросила сестра.
– А то!
– А с виду и не скажешь, обыкновенный человек.
– А писатели и есть обыкновенные человеки, только всё, что видят, обобщают и потом записывают. А вы думали, писатели и поэты – это только те, которые «с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой»? ― оживился писатель, закинул ногу на ногу и откинулся к стенке.
– С винцом в груди! Ты ирод с винцом и водярой в груди и в брюхе, и насквозь пропитан, ― снова вступила вернувшаяся жена.
– Холодно розе в снегу! Явилась не запылилась, – огрызнулся Витёк. Спохватился и продолжил роль маститого писателя и поэта: – Позвольте представить – моя супруга, так сказать, лучшая половина. Розалия Николаевна.
Роза улыбнулась, вздохнула, махнула рукой и присела рядом с муженьком.
– Это он Мандельштама так цитирует, – закокетничала она и продекламировала: – Холодно розе в снегу. На Севане снег в пол-аршина…
– В ТРИ аршина, картонка ты вертепная, – возмутился писатель и продолжил сам:
На Севане снег в три аршина…
Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани.
Сытых форелей усатые морды
Несут полицейскую службу
На известковом дне.
А в Эривани и в Эчмиадзине
Весь воздух выпила огромная гора,
Ее бы приманить какой-то окариной
Иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту.
Снега, снега, снега на рисовой бумаге,
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад…
Он вздохнул, мы тоже замолкли. Колеса громыхали вроде в такт, да совсем не в такт только прочитанному стихотворению. Ничего было в нем не понятно, но ясно, что сказал поэт о чем-то очень главном. И очень точно.
Витёк насладился впечатлением, сказал: «Эх, жизнь наша поганая», нагнулся под лавку, ширкнул замком, вытащил водку, разлил в четыре стакана, мы молча чокнулись и выпили.
– А мы батю похоронили, – выдохнула сестра.
Глаза ее набухли, но слезы не выкатились, а блеснули, поколыхались и ушли назад.
– Меня Катя зовут, – сказала она. Вытащила сумку, достала из неё самогонку в красивой иностранной бутылке, отвинтила пробку, налила всем по трети стакана. Снова вздохнула, сказала: – Давайте помянем нашего папаню.
Молча выпили.
Витёк, подержал стакан, выпил чуть позже остальных и сказал:
– Пусть земля будет ему пухом.
Розалия пояснила то, что все и так знали:
– До сорока дней надо говорить «пусть земля будет пухом», а потом «Царствие Небесное».
Сестра порылась в сумке и вытащила сало, колбасу, хлеб. Порезала на большие ломти. Все закусили. Опять помолчали.
Витёк отправился покурить.
– А чего это он весь в наколках, сидел, что ли? – наконец дождалась удобного момента моя любопытная сестричка.
– Нет, не сидел, – вздохнула Розалия. – Пьяница и дурак, хотя таланта огромного. Напился по молодости в общаге в своем литинституте, а такие же дураки всё это и нарисовали, пока он дрых. Неделю они бухали, а проспался, протрезвел – всё, назад никак. Так и ходит теперь, пугает людей. Полудурок окаянный.
Сестра успокоилась. Розалия вытащила из дальней сумки две книжки в красивых переплетах:
– Возьмите, это его. Только выпустили. Хорошая книга. Прочитайте.
Возвратился писатель. Увидел книги, улыбнулся:
– Это мои, последние, давайте подпишу на память. – Вытащил из кармана рубашки ручку, раскрыл книгу, подписал сначала сестре, потом мне. Я удивился, имена наши он запомнил, написал на первой странице, под углом, красиво, ровно. Мы прочитали надписи, сказали «спасибо». Что дальше делать с подарками, было не понятно. Читать сидя напротив живого автора вроде неприлично, спрятать ― неловко, и мы уважительно замолчали, держа книги перед собой.
– А вы давно писательствуете? – спросила сестра.
– Писательствую? – ухмыльнулся Виктор. – Давно. Сперва, еще школьником, в газетах, потом на втором курсе литинститута тоненький сборничек стихотворений издали. Первая книжка поэта. Тогда так модно было издавать стихи молодых да ранних.
Витёк снова приложился к стакану и продолжил:
– Писал много, взахлеб. И читал. Чего я тогда не перечитал! Всех из серебряного века. Гумилева, Цветаеву, Ахматову. Мандельштама. И тех, кто был за ними, и новых, и старых. И забугорных. И японские трёхстишья и пятистишья, и американские и французские верлибры. Уйму всего. Интересно было. В голове мысли роились. Стихи сами рождались. Умные люди заметили. Преподаватели из литинститута помогли. Через год еще сборник издали, побольше. В Союз писателей приняли. И пошло, и поехало. Теперь стихов мало пишу. Больше прозу. Стихи – дело молодых. Проза для взрослых дядек.
– А Тютчев, а Гёте? Наконец Тарковский, – вступила, наверное, в их давний спор Розалия.
Но писатель не ответил, пожал плечами, мол, какой смысл спорить об очевидном. Потом отломил кусочек хлеба, допил, что осталось в стакане.
– А писать вообще нету никакого смысла. Ни прозы, ни стихотворений. Все это начинается от юношеской дури. От тщеславия и самовлюбленности. Потом, когда насладишься запахом и видом собственной книжки, накрасуешься с ней, думаешь: вот она слава земная, пришла! Дождался! После четвертой, пятой печатаешься уже из-за денег. Да деньги-то оказываются небольшими. Потом утешаешь себя, думаешь, что людям польза от твоей писанины. Вроде помогаешь в жизни разобраться. Прозой – чего-то понять, стихами – утешить. И какое-то время из-за этого держишься на плаву. Вокруг хвалят: «Ах, какой ты талантливый, какой гениальный, какой умный, как это у тебя точно получилось!» Да только херня все это. Никому это на фиг не надо. Те, которые хвалят, не понимают, что в книге хорошо, а что плохо. Хвалят так, словца ради, чтобы показать свою значимость, причастность к литературе, или чего-то им от тебя надо, а сами, может, и не читали вовсе.
Когда поймешь это, а понимаешь не сразу, а долго, но вдруг шандарахнет и поймешь, тогда с тоски начинаешь пить. Вернее, начинаешь раньше, от счастья и радости, что издали, напечатали, что выступаешь, тебя слушают, задают вопросы, ну и прочая, прочая. Пьешь с друзьями, с писателями, потому что вместе, пьешь, чтобы поддержать разговор. Потом вообще по привычке, с кем встретишься. Потом, когда понимаешь, что никому это не надо, что никакого разумного, доброго и тем более вечного не сеешь, тогда уже пьешь с тоски. Оттого, что не пишется, что нету денег, а аванс проели-пропили, и надо книжку нести в издательство, а книжки-то нету. Клепаешь наспех халтуру – авось прокатит. Ну и так далее, как римляне говорили, эт сетера, эт сетера.
А захочешь написать про то, что накопилось, наболело, а тю-тю, нету тех самых главных и единственных слов, куда-то делись, осталась эта самая халтура, профукал способности и таланты, ничегошеньки не выходит. Оказывается, «весь воздух выпила огромная гора». Это Мандельштам верно подметил, и «не приманить её окариной, ни дудкой приручить, чтоб таял снег во рту».
Как он это ловко углядел! «Снег во рту» – это же слова. Настоящие, чистые, не изгаженные и не затертые штампы. Вот эту-то чистоту, непосредственность и правду и выпила гора быта, жизни, суеты, погони за славой, которой, как оказывается, фить – и нету.
Книжки есть, а стихов в них нету. Нету того, что нечаянно, а может переболев жизнью, написал он: «Снега, снега, снега на рисовой бумаге». Нету настоящих снегов-стихов на белой, чистой рисовой бумаге. Ничегошеньки нету. Всё дерьмо. И то, что было, чем хвастался, чему радовался, что обмывал с друзьями и гордился, и то, что будет, будет таким же дерьмом. Потому, что время ушло, изгажено суетой, торопливостью и погоней за этой поганой химерой-славой.
Глаза у писателя горели тоской, безысходностью и правдой. Вдруг потускнели. Он махнул рукой, разлил нам остаток самогонки, выпил. Я тоже.
Мы молчали. Чего тут скажешь, когда незнакомый человек вдруг, не хорохорясь, не рисуясь, выплеснет давно наболевшее.
– Да вы не переживайте, все еще образуется, – пожалела писателя сестра.
Он ухмыльнулся. Стрельнул глазом:
– А я еще о-го-го. Это я так. Может, это я отрабатываю монолог из нового рассказа. Или еще чего такое!
Розалия вздохнула, обняла его, чмокнула в лоб:
– Давай, Витюлечка, собираться, скоро выходить, приехали, Москва.
– Москва? Как много в этом, – взгляд писателя наткнулся на стакан, ― стакане для сердца русского кого-чего? Сплелось и не расплескалось.
Розалия вытаскивала сумки, уговаривала Виктора одеваться, он сопротивлялся. Потом, вдруг, за полчаса до Москвы стал никакой. С трудом ворочал языком, острил, но смешно не было. Особенно Розалии.
Когда поезд остановился, она не знала, как быть со знаменитым муженьком. Я помог выгрузиться из вагона. Распрощался с сестрой, благо её поезд отходил через час с этого же вокзала, а вещей тяжелых не было. Подхватил писателя и под причитания Розалии потащил к такси. В такси Виктора время от времени начинало мутить. Останавливались, он выходил, издавал звуки в подворотнях, мы его втаскивали назад. Таксист матерился, Розалия извинялась, обещала много заплатить. Витёк буянил. Наконец приехали. Вошли в квартиру. Разгрузились. Писатель предлагал обмыть возвращение, шумел, читал свои стихи, хвастался, что куда до него современным неучам, что он один теперь остался в стране и поэт, и писатель.
– И швец один, и жнец, – зловеще шипела Розалия.
– Ну, как, холодно розе в снегу? – куражился он.
Я попрощался, под извинения и благодарные слова жены писателя вышел.
Хитрая штука жизнь, и не приманить её ни дудкой, ни окариной – даст один талант, а отнимет два. Конечно, проще быть мордастой, усатой форелью, спокойно в тине на известковом дне нести свою службу и не горевать о словесности, о стихах, прозе, которые, может, и вправду никому теперь не нужны и зря тащит их в расписных лазурных санях странный в этом пригламуренном мире горный рыбак.
Холодно и одиноко ему нынче, как розе в снегу.
Шекспирсинг
До отхода поезда оставалось полтора часа. На соседней лавке мужик рассказывал другому байку:
– Дружили два пацана, – говорил он. – С детства. Жили в деревне. В колхозе или как там теперь называется. Отслужили в армии, стали шоферами работать. Поженились. А жены жадюгами оказались, сквалыжными до невозможности. Так они, дружбаны эти придумали. Один говорит бабе своей:
– Я тут договорился с начальством, сено для нашей Буренки дают. Только надо именно завтра получить, иначе всё. Или завтра или не дадут совсем, а мне как назло срочно велено завтра с утра в райцентр ехать.
Ну, она, баба его: «Как же так, как же быть». А он: «Сам голову ломаю. Без сена-то как. Без него не перезимуем. Что делать?».
– А ты дружка, Гриню, попроси. Он на грузовике своем нам и привезет.
– Точно! – муж отвечает, – ну, ты голова! Я бы сам и не додумался. Только он за просто так не привезет. Ты ему бутылку хотя бы поставь.
– Да уж поставлю.
На душе было муторно. Торчать на вокзале, слушать объявления о прибывших и отходящих составах стало невмоготу. Вышел на улицу. Промозглый ветер после десятка шагов заставил задуматься о тепле. На другой стороне площади сверкали вывески. Витрины дышали теплом, уютом. Перешел туда. Подошел к ближайшей. Над входом иллюминировала, заманивала неизвестностью надпись «ШЕКСПИРСИНГ».
Толкнул огромную стеклянную пластину, служившую дверью. Вошел.
Полумрак слегка успокоил. Подскочил менеджер зала, дыхнул мятной жвачкой, ослепил улыбкой:
– Вам фантастически повезло! У нас только сегодня скидки 30 процентов! Только сегодня!
Не увидев на моем лице счастья, торговчик бархатным голосом проворковал:
– И от себя могу добавить 5 процентов. Итого получается целых 35 процентов!
Я выдохнул осеннюю сырость, вдохнул привычную бронезащиту от этих деятелей, хмыкнул, не оборачиваясь к двери, показал на улицу большим пальцем и произнес:
– А у тех, скидка 40 процентов.
– 40? – менеджер слегка растерялся, но тут же собрался и продолжил, – у нас 40 VIP клиентам. Но …
Лицо его снова осветило счастье:
– Но у меня есть для вас одна, личная карточка VIP клиента. – Он проглотил слюну, прильнул к моему уху и заговорщицки прошептал – И плюс от меня 5 процентов.
Я отстранился от настырного типа и менторским тоном сообщил:
– Главное не цена, главное качество! Это я вам как хирург говорю.
– Вот! – менеджер просиял, – именно качество! Вы совершенно правы. Качество это именно то, на что мы делаем особенный акцент. У нас самый высокий уровень качества. Предлагаю убедиться лично. Прошу!
С каждым словом, с каждой фразой он увлекал меня вглубь зала. Тепло и полумрак делали свое дело, и мы медленно, но удалялись от входной двери.
Мама в детстве нам с братом говорила: «Никогда не вступайте в разговор с политиками, цыганками и менеджерами торговых залов. Заболтают, загипнотизируют, обманут и вытянут деньги». Я развернулся, шагнул к выходу и путь к познанию «высокого уровня качества» снова удлинился. Но только на три шага. Девица на алых каблуках, преградила путь. Обойти не получалось. Вспомнилось о правилах прицеливания, о поправках, которые надо делать при расчете траектории, чтобы попасть в цель или наоборот не попасть во что не нужно. Показалось, что адское пламя плещется там, под этими каблуками. Пахнуло серой, хлороформом, операционной. Крашеная блондинка, огромные черные глаза пожирали, яркие в тон каблуков губки шептали в такт пламени:
– Попробуйте, всего лишь разок попробуйте.
Слова, не становясь звуками, проникали в сознание, гипнотизировали, словно дудочка заклинателя.
– Чего «попробуйте»?
– Ш-ш-ш-екс-с-с-пир-с-с-с-инг, – шептала, не моргая кобра в фирменном наряде, – ш-ш-ш-екс-с-с-пир-с-с-с-инг.
– Пятьдесят и еще пять лично от меня! – спасительно пахнуло мятой.
Издалека, из другого мира снова мелькнуло:
– Сынок, никогда не вступай в разговор с …, – и я вернулся в реальность.
Адское пламя сократилось до размеров люстры, отраженной в зеркальном полу. Не подозревая о расчетах траекторий, на меня глядело создание в форме младшего менеджера. Пахло пряными арабскими духами.
– Спасибо, – сказал я Спасителю в наряде менеджера и пожал его руку.
– Пятьдесят процентов как VIP и еще пять лично от меня! Это почти бесплатно! – повторил он, не поняв причины моей благодарности.
Девица зло блеснула глазами. Отвернулась от недотепы и, стуча такими же длинными, как ноги каблуками, обиженно ушла за стойку.
– Ш-ш-ш-екс-с-с-пир-с-с-с-инг, – напоследок прошелестели складки платья.
Я взглянул на часы. До посадки в вагон оставалось чуть больше получаса.
– А что это такое – шекспирсинг? – я решил, что хватит крутиться вокруг да около, что пора узнать.
– Шекспирсинг! О, шекспирсинг это …
Новый посетитель прервал объяснение. Менеджер, поняв, что от меня толку не будет, кинулся к нему.
– Вам фантастически повезло! У нас только сегодня скидки тридцать процентов! Только сегодня!
Не увидев на лице нового посетителя счастья, парень бархатным голосом проворковал:
– И от себя я могу добавить пять процентов. Итого получается целых тридцать пять процентов!
– Ты перед сном молился Дрозофила? – вошедший начал расстегивать куртку.
Обиженная девица за стойкой захихикала, предвкушая побоище, и подзадорила:
– Мужчина, как вы разговариваете в таком тоне с самым главным менеджером зала!
«Точно, кобра. Гадюка и есть», – подумал я.
А мужик уже тряс одной рукой за грудки менеджера, а другой продолжал расстегивать молнию на косухе. Под косухой была груда мышц синего от татуировок цвета.
– И от себя я могу добавить 5 процентов, – по инерции блеял продавец.
– Я тебе сейчас сам добавлю 100 процентов! – замахнулся качёк.
Электрошокеры охранников успокоили его и уложили на пол.
– Это Витек, – прокомментировал один из охранников второму, молоденькому. – Он тут рядом в тату салоне работал. Двери опять попутал. Их хозяин ему за два месяца денег задолжал, а когда Витек заявление на расчет принес, расплатился татуировками. Витек их терпеть не может. Вот такую подлянку тот кинул.
– А зачем этот татушки согласился делать? – спросил второй охранник.
Первый заржал:
– Хозяин, скотина, сперва напоил Витька, а когда тот ничего не соображал – разрисовал. Витек с тех пор не просыхает. Как дойдет до кондиции, к нему разбираться приходит. Ему в таком виде на соревнованиях в чемпионы не выбиться.
– Да …, – протянул молоденький, – чего только не бывает.
На полу раскинулось огромное красивое безобразно разрисованное татуировкой тело. Культурист похрапывал.
Охранники оттащили его подальше от входа, сказали «не на мороз же выставлять хорошего человека», ушли к двери перекурить. Выпускали в щелку дым и продолжили, наверное, нескончаемый треп.
– Мне тут на днях приятель, да ты его знаешь, Михаил, – начал тот который постарше.
– Малышев? – уточнил второй.
– Ага, – кивнул старший, – так вот, он на днях хохму рассказал. Мы оборжались.
– Ну? – заранее хихикнул второй.
– Дружили два пацана. С детства. Жили в деревне. Отслужили в десантуре. Поженились. А жены у обоих, не жены, а бензопилы «Дружба». И жадные, слов нет какие. Из карманов всё выгребают, до копейки. На пачку сигарет и то не оставят. А бутылку, никогда. Вообще никогда, понимаешь? Так они, друзья эти вот чего удумали:
Один своей дуре говорит:
– Не знаю как и быть! Дрова выписал, еле добился. Начальство еле уломал, только в ногах не валялся. Согласились, но сказали или завтра вывезешь или всё. Никогда.
– Да умница, – жена говорит, – будем теперь с дровами зимой. Не померзнем.
– Только вот заковыка какая, понимаешь, не знаю, как и быть, – пожимает плечами муж, – завтра велено в область везти с утра картошку, капусту и прочее на ярмарку. Так что чую, мерзнуть нам зимой придется.
– А ты своего дружка, Петьку, попроси. Он же на грузовике работает на нем и привезет.
– Точно! – муж отвечает, – какая ты сображучая! Я бы сам и не додумался. Только он за просто так не привезет. Ты ему бутылку хотя бы поставь.
– Да уж поставлю.
Потом, денька через два, другой своей гагаре чего-нибудь такое же навешает. Та тоже бутылку ставит.
А в выходные едут дружбаны на рыбалку, рыбки наловят, а вечерком костер разведут, ушицу поставят варить. Еду разложат, ну там помидорки, огурки, картошечку запекут, сальцо порежут. И две бутылки посредине! Сидят об жизни разговаривают, водочку попивают и над выдрами своими ржут.
– А у нас, если уж разговор про водяру зашел, мужики вот чего удумали – продолжил другой охранник, – подрядились они работать на заводе. Химическом. Чего-то там делали в лаборатории. Не то электропроводку меняли, не то стены кафелем обкладывали. Короче, увидали, что у начальника лаборатории в сейфе бутыль со спиртом стоит. Пятилитровая. Они и так и эдак, как коты вокруг сметаны, возле этого начальника кружатся, а он не наливает. Сейф вот он рядышком, но, как говорится, видит око, да зуб неймет. Неделю думали! И вот чего учудили. Сгондобили из стали поддон. Дождались вечером пока все уйдут, поставили в этот поддон сейф. Потом подняли, а он килограммов двести весил, и в этот поддон со всего маху бабах! Бутыль вдребезги, а спирт через щели в поддон вытек! Вот это мысль! Такое захочешь не придумаешь. Процедили и сутки потом гудели. Пять литров спирта, это же считай, двадцать пузырей водяры.
– А этот, начальник лаборатории, чего? – спросил первый охранник.
– Начальник? Не знаю, про него ничего мужики не говорили, – задумался рассказчик, – должно быть промолчал. Их не выгнали. Наверное, посмеялся. У нас инженерную мысль любят. А спирт, это так, сегодня есть, а завтра тю-тю.
В зал, растолкав охранников, вкатилась тетка.
– Девчаты, завтра с утра воду отключат. На полдня. До шестнадцати ноль-ноль. Будут врезаться в трубопровод. Подключать новый корпус. Запаситесь водой.
Девицы в зале стали возмущаться, потом спорить, кто пойдет покупать канистры, ведра.
Шелестящая кобра, младший менеджер, надула губки, поморгала ресницами и произнесла:
– Ужас, как можно так над людьми измываться. У меня дома в прошлом месяце на неделю горячую воду отключали. Просто не знаю, как выжили! Господи, ни умыться по человечески, ни ванну принять. Безобразие!
Остальные подхватили тему, закудахтали:
– Да, да, это какой-то кошмар. У нас тоже недавно в доме труба лопнула, весь вечер без воды были.
– А у нас летом экскаватор провода порвал, электричества не было. Часа четыре чинили. Господи, какой ужас. Фен не работает, телевизор не посмотреть и вообще.
Я поглядел на часы. Вернулся на вокзал, нашел свой поезд. Залез на верхнюю полку, проспал почти сутки. Вечером вышел на полустанке. Там ждали старые, раздолбанные «Жигули» с двумя молчаливыми парнями. За ночь по степным грейдерам перебрались на ту сторону. Потом ехали мимо сгоревшей подстанции с искореженным трансформатором, черной от гари водокачки, обезлюдевших деревень, закопченных пожарами мертвых пятиэтажек. Разрушенной снарядами котельной. На обочине, старухи, испуганные, онемевшие от страха детишки, стояли в очереди за водой у пыльной автоцистерны. Дорога петляла мимо воронок, разбитых витрин пустых магазинов, выжженных снарядами полей.
Под утро приехали. Седой парень в камуфляже поглядел документы, кивнул, сказал, что врач им очень даже пригодится. Сказал, что жилые дома постоянно обстреливают, что много раненых, а лечить некому.
– Нет, командир, я пришел сто первым. У меня тут брата убили. Прямо в больнице. Делал операцию и …
– Я знаю. Понял. Вы похожи. Он у жены моей в прошлом году роды принимал. Хороший врач.
– А где его похоронили.
Парень отвел глаза, тихо сказал:
– Там после взрыва эти пришли, – он кивнул головой в сторону откуда постоянно стреляли, – а когда мы отбили, после них остались только двухсотые. Но твоего брата среди них не было. Живых там вообще никого не нашли. Пусть земля им всем будет пухом.
– А я того же хочу тем, кто это сделал. Так что давай, если есть, весло и лифчик, – я, неожиданно для себя перешел на армейский жаргон, почти забытый за годы гражданки.
Парень мрачно сказал:
– СВД тебе будет, но хочу, чтобы знал – если схватят, живым сожгут. Или на куски порвут. Привяжут к БТРам и порвут.
– Если, – ухмыльнулся в ответ я и добавил, – коли так, для страховки за парочку Ф-1 и Стечкина особое спасибо скажу. Верну старшими офицерами.
– Найдем, – он кивнул. Пожал руку. Повторил, – всё найдем, этого добра хватает.
Через сутки, уже почти ночью, я начертил в маленьком блокнотике третий крест. За брата оставалось нарисовать семь. Так решил когда ехал в поезде. За остальных – сколько получится. У крестов ведь тоже есть братья. Тогда же подумал, что в той недавней жизни, может быть, я их лечил. Или мой брат, а теперь… Всё это похоже на бред, на этот самый бессмысленный непонятный магазинный шексприсинг.
А на следующий день в прицел увидел своего Толяна. Он перевязывал раненого. Сначала я подумал – показалось. Нет, не показалось, это был он, мой братишка! Вечером позвонил матери. Она долго молчала, потом сквозь слезы начала говорить:









