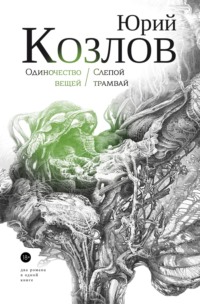Полная версия
Реформатор. Новый вор. Том 2.
Никита как в свете молнии увидел основной конфликт бытия – стержень, вокруг которого крутилась жизнь, но он усомнился, потому что слишком уж много было этих стержней, слишком уж легко они, как в свете молнии, являлись пред его мысленными очами. И еще почему-то в сером экране стоящего на кухне телевизора ему увиделась… прохладная вода, то есть не вода, а антивода.
Вода и антивода находились примерно в таком же противоречивом единстве-антагонизме, как Христос и Антихрист. Никита отдавал себе отчет, что неким обскурантизмом (мракобесием, ненавистью к прогрессу и т. д.) веет от этих его мыслей, как, впрочем, отдавал себе отчет и в том, что среднестатистическая душа на исходе XX века определенно не поспевает за информационным – на теле- и компьютерных экранах – изобилием. Внутри мнимого изобилия скрывалась железная арматура технологий, готовая в любое мгновение повернуть цветную экранную реку в нужном направлении, вздыбить, поставить на попа, взметнуть да и обрушить рукотворную лавину на бесхитростную среднестатистическую душу. Никита не сомневался, что знание Христа бесконечно выше и чище знания Антихриста, но в то же время знание Антихриста представало куда более изощренным, технологичным, а главное, адаптированным к временным реалиям. Христос мог доказать (точнее, две тысячи лет назад уже доказал) одно, а именно, что Он есть высшая и последняя инстанция любви к человеку.
Антихрист мог доказать все что угодно.
Вот почему Христос был Богом, абсолютным смыслом которого была бесконечная любовь, а Антихрист – распространяющейся (летящей) во все стороны Вечностью при видимом отсутствии абсолютного смысла. В самом деле, не считать же за него такую мелочь, как приобретение власти над человечеством?
Дело было в другом.
В чем?
Никита не знал.
Он был вынужден признать, что человеческое сознание организовано скорее по образу и подобию Вечности при видимом отсутствии абсолютного смысла, нежели Бога, абсолютным смыслом которого была бесконечная любовь.
Теперь он (опять как в свете молнии, как будто жил внутри перманентной грозы) вдруг понял, почему (если верить матери) вознамерилась утопиться богиня Сатис. Она устала от несчастий своих детей. Родовые муки (отход вод) длились вечно, в то время как все прочее, во имя чего она терпела муки, а именно жизнь – было стремительно, если не сказать торопливо-, суетливо-конечно. Выходя из родовых вод, человек начинал дышать воздухом, который был полон несовершенства и, следовательно, сам становился объектом (субъектом?) несовершенства. Чтобы, пройдя назначенный путь, вернуться в уже иные прохладные воды, которые есть (Господа) любовь, и там – в этих водах – обрести иную – более совершенную – жизнь?
Если это и впрямь было так, то Сатис нечего было печалиться, так как логический круг был замкнут.
Или все-таки разомкнут?
Никита понял, что не увидит (как в свете молнии) ответа.
Между резервуарами двух прохладных вод лежала тайна (Бермудский треугольник), в котором то, что, казалось бы, не могло исчезнуть никогда, исчезало невозвратно, а что-то возникало совершенно неожиданно и, более того, начинало править миром. Проще всего было назвать эту тайну смертью, но это было бы слишком простым объяснением. Никита подумал, что речь идет о слитном (вопреки всем мыслимым законам) существовании жизни и смерти, вот только непонятно было, кто, собственно, должен объяснить, где жизнь, а где смерть, кто должен был отделить овец жизни от козлищ смерти? Принципиальная непознаваемость нового мира, о котором говорил отец, следовательно.
заключалась в пронизанности его (на манер метастазов?) смертью, то есть фрагментами, сегментами, секторами и т. д. бытия, где действовали правила, против которых живые люди были бессильны, ибо победить их можно было только «смертью смерть поправ», что, как известно, за всю историю удалось сделать од- ному-единственному существу во Вселенной.
Воистину, сознание наполняло жестокий мир романтическим содержанием, но романтическое содержание не могло смягчить жестокий мир.
«Если есть бог самоубийства, – вдруг произнес, глядя в серый (антиводу?) телевизионный экран Никита, – значит, есть и бог выбора, бог свободного выбора, который склоняет человека к тому или иному решению».
«А может, даже специально ставит человека перед необходимостью выбора, то есть навязывает ему этот выбор», – продолжил отец, глядя на Никиту с неожиданной симпатией и даже с некоторым облегчением, как если бы Никите было лет пять и он все эти годы молчал (как, собственно, и было, правда, до четырех лет), но вдруг сразу заговорил хоть и корявыми, но законченными по смыслу предложениями.
«Имя ему Енот», – вдруг весело подмигнул Никите Савва, плеснул ему в стакан красного вина.
«Енот? – Никита подумал, что брат над ним издевается. – Почему не… Никодим?»
Он сам не знал, откуда взялся этот Никодим и чем, собственно, плох Енот, о котором он мгновение назад, как говорится, ни сном ни духом.
«Никодим ходит там, где никто не ходил, – усмехнулся Савва. – Это, естественно, не тот енот, из которого шьют шубы, который полощет в прохладной воде пищу, – одним словом, не енот-полоскун и даже не енотовидная собака, а… другой Енот. Ремир тоже слово древнее, но в современном русском случайно производное от “революция” и “мир”, а может, “мировая революция”. Так и Енот. Совпадение звуков, не более того. Впрочем, если хочешь, зови его Енотом Никодимом или Никодимом Енотом, я думаю, он не обидится».
«А Енотом Никодимовичем?» – Никите было не отделаться от мысли, что проникшая в кухню Вечность раздвинула не только пространство, но и время, что они с братом опять идут по вечерней ялтинской набережной, и люди (в особенности же девушки) смотрят на них с нескрываемым отвращением. Они всегда смотрят с отвращением на тех, кто забегает вперед, подумал Никита.
Савва совершенно точно забежал.
Единственно, непонятно было, вернулся ли он туда, где все (большинство), или остался в этом «впереди».
«Хоть Енотом Дельфиновичем», – невесело ответил Савва.
«Енот Никодим спит один», – ни к селу ни к городу добавил отец.
Возникла пауза. Нелепое добавление сообщало нелепому обсуждению нелепого вопроса еще большую нелепость.
Никите захотелось крикнуть брату, что он будет с ним до конца, но он промолчал, потому что в последнее время его любовь к Савве уже не была слепой. Она (любовь) как бы перешла в новое качество, позволяющее подняться над рекой общей крови да и увидеть, что река течет не туда.
Хотя кто знал, куда ей течь?
«Сынок, – встревоженно произнес отец. Никита увидел, что бутылка водки в углу стола почти пуста. – Не все так просто с этими ребятами – Ремиром и Енотом».
Глаза у отца были совершенно стеклянными, на лбу дрожали капли пота, как если бы он только что вышел из бани. Он (точнее, его сознание) и вышел(ло). Из странной бани, где смешались водка и Вечность. В сущности, подумал Никита, водка и Вечность дополняют друг друга, хотя, конечно, они далеко не равноценны. Про водку, в принципе, можно сказать, что она – Вечность. Про Вечность, что она водка, – нет.
Впрочем, мысль эта не очень понравилась Никите. Она определенно появилась не в свете молнии. А если и в свете молнии, то… в жидком, сорокаградусном. И не у Никиты, а у отца. Но, видимо, мысль была размашиста, а потому ее тень, как если бы она была огромной птицей, накрыла Никиту. Вообще, в дельте (низовьях, верховьях, разливе?) реки общей крови происходили странные вещи.
«Сынок, – повторил отец, схватив его за руку, как будто Никита собирался убежать, – этот Ремир – бог не только и не столько самоубийства, но… и, так сказать, отсроченного самоубийства, то есть бог действий, которые приводят впоследствии как отдельных людей, так и целые общества, страны, цивилизации к… исчезновению… Вот они-то – Ремир и Енот – и раздолбают нашу несчастную Россию, а там и весь мир, хотя, конечно, никто об этом никогда не узнает…» – как конь всхрапнул, свесив седую с прилипшей ко лбу челкой голову на грудь.
Никита подумал, что, вполне возможно, отец произнес этот монолог… во сне перед другими людьми, находясь во власти иной системы пространственно-временных и, следовательно, логических координат. Ему хотелось спросить у отца, победа какого из двух мифических зверобогов – Ремира или Енота – предпочтительнее? Но тот бы, скорее всего, его не услышал.
Зато невысказанный этот вопрос услышал Савва.
«Енот, если хочешь знать, бог не только свободного, но навязанного выбора. А что такое навязанный выбор? – внимательно посмотрел на Никиту. – Удачно проведенная предвыборная кампания! Ведь все, что происходит с человеком в канун выбора, то есть до момента опускания в урну бюллетеня, в сущности, и есть предвыборная кампания. Енот, таким образом, еще и бог избирательных технологий, имиджмейкер и пиарщик, как говорится, по определению. А где избирательные технологии, там что? – подмигнул Савва. – Там деньги!»
Бред, подумал Никита. Река общей крови, похоже, протекала среди смысловых и прочих галлюцинаций. И сама порождала (генерировала) галлюцинации.
«Но ведь тогда получается, что Енот – это форма без содержания? – удивился Никита. – Технология, пусть даже самая совершенная, но обращенная на самое себя – это… умножение на ноль, пустота. Костюм без тела, рыба из одной чешуи!»
«Именно так! – обрадованно подхватил Савва. – Форма без содержания против содержания без формы или: бессодержательная форма против бесформенного содержания. Видишь ли, деньги заливаются в любую, даже самую бесформенную форму, заполняют ее и сами становятся содержанием».
«В чем смысл противостояния бога самоубийства и бога формы без содержания?» – спросил Никита.
«Сдается мне, – ответил после долгой паузы Савва, – они делают одно дело…»
«Вот только дети у них всегда получаются мертвые», – вдруг пробормотал, не открывая глаз, отец.
…Никите решительно не понравилась превосходящая меру пластичность (бесхребетность) мира, выражавшаяся хотя бы в том, что любые, в принципе, слова подходили к любой, в принципе, ситуации. Ему открылось, что слово – помимо того, что ключ ко всем дверям (смыслам), – еще и отмычка к этим же самым дверям (смыслам), в которые, стало быть, может войти (и выйти) кто угодно, прихватив с собой что угодно, включая саму дверь (смысл).
Выходило, что у смысла и бессмыслицы равные права на су- гцествование, и единственное, что их разделяло, – это… то, что ничто их не разделяло.
Никита наконец-то ухватил за кончик суровую нить беспокойства, прошивавшую его жизнь. В школе, на улице, во дворе, даже и в телевизоре мир был не то чтобы статичен, неизменен, но (в основном) предсказуем и (отчасти) понятен. Дома же, в особенности в такие вот вечерние сидения на кухне, – подвижен и виртуален, как комьютерное изображение, самосклады- ваюгцаяся и саморассыпаюгцаяся же мозаика. Отец, мать, Савва представали разрушителями смыслов, провозвестниками некоей ментально-бытийной революции, суть которой, как открылось Никите, заключалась именно в перманентном «мозаировании» смыслов, неустанной виртуализации предсказуемого и понятного. Грубо говоря, где раньше главенствовал ключ и, следовательно, сторож, определявший, кого можно, а кого нельзя пускать в дверь, теперь главенствовала отмычка и, следовательно, вор, пускавший… кого?
Вот он, подумал Никита, краеугольный камень бытийной революции: вместо смысла – бессмыслица, вместо сторожа – вор! А если, продолжил мысль, таков краеугольный камень, то каково же здание? Отец, мать, Савва определенно не являлись ни ключниками в старом мире, ни ворами в новом. Никита вдруг догадался, что они – зеркала, в которых скользят, меняются, появляются, исчезают, превращаются в собственную противоположность смыслы.
Единственно, Никита не понимал: кто должен смотреть в эти зеркала и что этот «кто» там должен увидеть?
Может быть, я, подумал Никита.
Когда-то Савва научил его, как искать ответы на вопросы, на которые, как представлялось, нет ответов. «Это в высшей степени просто, – помнится, рассмеялся Савва, – вот только не всегда возможно с кем-то поделиться своими открытиями». Савва сказал, что достаточно всего лишь ясно сформулировать вопрос в собственном сознании, а затем всего лишь… закрыть глаза. Первое, что увидят закрытые глаза, и явится ответом на поставленный вопрос.
Никита зажмурил глаза и увидел… девушку-дельтапланеристку, отважно летящую сквозь ночь… Неужели во ввинченную в бетон на манер раскрашенного многоголового бронебойного шурупа церковь?
Предполагаемый (если верить Савве) ответ на не сформулированный Никитой вопрос носил нестандартный, скажем так, характер, но Савва утверждал, что самые, на первый взгляд, дикие ответы как раз и есть самые правильные. Ибо Бог, Вечность (кто отвечает) изначально шире любого сформулированного (или не сформулированного) человеком вопроса. Просто человек не всегда это понимает.
…Отцу решительно не нравилась новая (после преобразования ассоциации молодых философов в партию с говорящим названием «Союз конформистов») работа Саввы. В некоем сомнительном фонде Савве платили огромные деньги за совершенно непонятные (и, как подозревал отец, вредные) исследования в области… национальной идеи.
Фонд так и назывался – «Национальная идея», сокращенно – «Нацид». Нацидами, стало быть, можно было именовать сотрудников этого фонда.
По всей видимости, хоть он в этом и не признавался, отца раздражал и беспокоил факт неожиданной конкуренции. В своих статьях в «Солнечной революции», «Прогрессивном гороскопе», «Натальной карте» и «Третьей страже» он тоже исследовал национальную идею, причем не просто исследовал, а, как говорится, закрывал тему. Отцовские труды были материальны, точнее, материализованы: их хоть и с трудом (не каждый знал где раздобыть редкие издания), но можно было прочитать.
А вот чем же занимался Савва, было совершенно неясно.
Наверняка отцу не нравилось, что ему денег за очевидные труды не платили, Савве же – неизвестно за что – еще какие! Получалось, что невидимые миру Саввины поиски национальной идеи пролегали среди тучных нив и стад, в то время как по достоинству оцененные знатоками – читателями «Натальной карты», «Солнечной революции», «Прогрессивного гороскопа», «Третьей стражи» – отцовы – в ледяном призрачном внемате- риальном астрале.
Всем своим новым – бессребреннически-вневременно-ду- ховным (плащ-мешок, бурые джинсы, овальные, общего цвета всесезонные ботинки, свалявшаяся круглая шерстяная шапочка, но при этом острый иронично-скептический взгляд из-под неухоженных бровей) – видом отец хотел продемонстрировать, что он выше денег, но (по жизни) получалось, что он всего лишь демонстрировал, что их у него нет.
Как, впрочем, не было их тогда у подавляющего большинства граждан России.
Поэтому отец никого не мог удивить.
Не утратившие чувства реальности окружающие смотрели на него как на идиота. То, что у него нет денег, – это было видно невооруженным взглядом. То, что он сочинял умные статьи для малотиражных эзотерических изданий, – знали сам отец, его близкие, редактор и редкие читатели этих изданий. Но читатели не знали отца в лицо. Таким образом, две прямые – бессре- бренничество и интеллектуальная мощь – не могли соединиться и наполнить в глазах окружающих образ отца желаемым содержанием. Налицо было выпадение из социальной ниши (гнезда). Эдаким состарившимся двуногим птенцом бродил отец, не понимая: как, когда, почему и за что все это с ним случилось?
Вроде бы нацидский фонд был частной организацией, однако же у Саввы моментально образовался разноцветный веерок пластиковых кредитных карточек и ламинированных пропусков с печатями, мерцающими гербами-голограммами, позволяющими ему (своим ходом и на колесах) проникать всюду и одновременно запрещающими имеющим на это право интересоваться как личностью самого Саввы, так и тем, кто и что у него в машине.
Савве выделили (служебный) черный джип, на котором он носился по Москве как хотел, пихая в нос гаишникам и омоновцам переливающийся, как змея свежей чешуей, пропуск с лаконичной фразой: «Проезд всюду».
«Так летишь, браток, – заметил однажды ему ироничный капитан, – что неровен час размажешь ее об асфальт, националь- ную-то идею…»
Вот и сегодня отец вдруг безо всякого к тому повода заявил, что безнравственно работать в организации, цинично жирующей, в то время как народ скорбно бедствует.
Савва не согласился с отцом, с некоторых (как выгнали из газеты) пор полагающим себя частицей этого самого скорбно бедствующего народа.
«Скорбно бедствующий народ и цинично жирующие отдельные личности – суть сообщающиеся сосуды, – сказал Савва, – случись даже атомная война, сгори все к чертовой бабушке, и тогда на, точнее, под пепелищем отыщется бункер с цинично жирующей сволочью».
«К чертовой бабушке, – задумчиво повторил отец, – еще иногда говорят: к чертовой матери. Почему никогда не говорят: к чертову отцу, чертову дедушке?»
«Понятия не имею, – удивленно посмотрел на отца Савва. – Говорят что угодно, точнее что хотят, еще точнее – что в голову взбредет».
Воистину, «на воздушном океане без руля и без ветрил» застольная беседа «тихо плавала в тумане». Точнее, не тихо, а вязко и бестолково.
«Значит, у черта есть мать и бабушка, но нет… отца и дедушки?» – не унимался отец. Вполне возможно, он собирался написать на эту тему статью в «Солнечную революцию», «Прогрессивный гороскоп», а может, в «Третью стражу» или «Натальную карту».
«Над этим можно думать сколько угодно, а можно вообще не думать, – заметил Савва. – Это называется дурная, в смысле, непродуктивная, бесплодная, тупиковая и так далее бесконечность. Она опрокинута в бытие, которое, как известно, определяет сознание. Потому-то народ скорбно бедствует, а отдельная сволочь цинично жирует, что тебя занимает, почему у черта есть мать и бабушка, но нет отца и дедушки. Если бы существовала единица измерения мысли, я уверен, в России у нее был бы самый низкий, ничтожный коэффициент полезного действия. Беда русских людей в том, что их мысли расходуются в лучшем случае ни на что, впустую, в худшем – им же во вред».
«По-твоему, это будет длиться вечно?» – поинтересовался отец.
«Не знаю, – ответил Савва, – ведь существует так называемое универсальное мерило всего и вся, а именно человеческий век, то есть так называемая среднестатистическая жизнь. Мир устроен так, что на протяжении этой самой среднестатистической человеческой жизни все начавшееся обязательно должно закончиться, то есть прийти к некоему, пусть даже суперстремительному, итогу, а все закончившееся… снова, пусть даже совершенно внезапно, начаться, чтобы… уйти от этого самого итога. Два эти встречные движения некоторые считают двумя жерновами, размалывающими жизнь».
«Когда же закончится то, что продолжается сейчас? – спросил отец, – И что начнется?»
«Исторический опыт свидетельствует, – ответил Савва, что обычно это заканчивается или наведением – восстановлением – социального порядка, то есть приведением цинично жиру- югцих и скорбно бедствующих к единому, как правило, невысокому в смысле жизненных стандартов знаменателю, так сказать, унификацией эпитетов “цинично” и “скорбно”, или… революцией, что в нашем случае маловероятно, если конечно, – усмехнулся, – не иметь в виду “Солнечную революцию”».
«Почему же маловероятно? – не согласился отец. – Революционная ситуация налицо: верхи не могут, низы не хотят».
«А может, – словно и не расслышал его Савва, – все закончится чем-то третьим, на что в глубине надеются как цинично жирующие, так и скорбно бедствующие. Неужели ты до сих пор не понял, – посмотрел на отца, как учитель на тупого ученика у доски, – что суть происходящего, длящегося, именно в исключении революции из мирового исторического времени, ликвидации революции, как класса?»
«Что же это за третье? – спросил отец. – “Третья… стража”?»
«Бесконечное свободное падение во времени, пространстве, религии и морали, – обьяснил Савва, – болезненно-сладостное бытие в новых – совершенно невозможных для прежнего состояния массового сознания – условиях. Это на первый взгляд зыбкая, случайная, но в действительности очень прочная социальная конструкция, совершенно исключающая революцию как способ разрешения вопиющих противоречий. Точнее, исключающая ее в виде действия, но допускающая, даже поощряющая в виде рассуждения. Скорбно, как ты выразился, бедствующие живут надеждой, что им повезет и они перейдут в разряд цинично жирующих. Цинично жирующие живут надеждой, что им будет позволено жировать вечно, то есть до самой смерти. Все как бы столпились у автомата, выплевывающего счастливые билеты, у рулетки с бегающим шариком. В казино, в игорном притоне, да, конечно, может возникнуть драка с поножовщиной, даже перестрелка, но… не революция. Какой ты, к черту, революционер, если сидишь за зеленым сукном, – спишь и видишь, как бы слупить джекпот? Это третье, – добавил задумчиво, – я бы охарактеризовал как теорию отложенного выигрыша. Она универсальна, эта теория, и вполне применима ко всем слоям общества, любым стоящим перед обществом – социальным, экономическим, геополитическим и так далее – проблемам».
«Значит, вот какую национальную идею вы там разрабатываете?» – неодобрительно покосился на Савву отец.
«А другая в России сейчас и невозможна», – развел руками Савва.
«Почему?» – нахмурился отец.
«Потому что в массовом сознании отсутствует само понятие справедливости, – ответил Савва. – Оно уничтожено вместе с понятием революции. То есть само понятие, может, и не уничтожено, но понятие пути к нему уничтожено. Так ворвавшиеся в Древний Рим германцы в шкурах тупо смотрели на Колизей, но совершенно не представляли, как он мог быть построен».
«Если, конечно, они вообще задавались данным вопросом», – заметил Никита.
«Кем же все это уничтожено?» – спросил отец.
«Да все ими же, – усмехнулся Савва, – Ремиром и Енотом».
«Значит, вы намерены превратить жизнь на земле в ад, чтобы смерть показалась людям раем?» – задал отец странный и, как показалось Никите, совершенно не вытекающий из предыдущих умопостроений вопрос. Как если бы на сковородке, где жарили яичницу, вдруг возникли… цыплята табака.
«Знаешь, где скрывается Вечность, если дьявол, как некогда заметил Шопенгауэр, скрывается в типографской краске? – превратил цыплят табака в… шаровые молнии, в вылетевший в форточку пчелиный рой (?) Савва. – В поиске смысла там, где он отсутствует, как говорится, по определению».
«То есть, – усмехнулся отец, – в национальной идее?»
Никита вдруг подумал, что он не на отмели, а на каменно-пе- ресохшем дне реки общей крови. Кровь (вода), возможно, протекала там в незапамятной (юрской) эпохе. На нее, возможно, тупо (как германцы в шкурах на Колизей) смотрели с берега сухопутные динозавры, возможно тиранозавры. Другие динозавры – птеродактили – пролетали над ней на перепончатых крыльях. И, наконец, третьи – ихтиозавры – сидели в реке, выставив наружу спины с перепончатыми, как вееры, аккумулирующими солнечное тепло гребнями. Но река давно и бесследно растворилась во времени, кристаллизовалась рубиновыми вкраплениями в прибрежных скалах, виртуально сканировалась в зрачках канувших в слепые нефтяные горизонты динозавров. Отчего-то пришли на ум… Кремлевские звезды. Как высоко, подумал Никита, вознеслась, воссияла над миром окаменевшая кровь.
Мысли бродили в голове, как стадо вольных баранов.
Чем дольше Никита над всем этим размышлял, тем отчетливее уверялся, что должно быть что-то, во имя чего происходит то, что происходит, и что в этом «что-то» странно, если не сказать противоестественно, соединились Кремлевские звезды и овальные отцовские ботинки, «Прогрессивный гороскоп» вкупе с «Третьей стражей», «Натальной картой», «Солнечной революцией» и богиня прохладных вод Сатис, мумифицированные в подземных нефтяных горизонтах динозавры и седая прядь на виске Саввы, метеорит, убивший старуху, и шумящие за окном листья, неурочное октябрьское тепло и облитый солнечной глазурью дельфин, некогда взлетевший над крымской скалой, яко птица. Все, что видел и слышал, о чем думал и не думал Никита, без видимой тесноты (и смысла) вмещалось в это «что-то». Так легко и непроблемно вмещаются в любой (даже и крайне тесный) карман любые (иногда весьма немалые) объемы денег.
Впрочем, он был вынужден признать, что, вполне возможно, данное «что-то» – всего лишь ничто, как это частенько случается в жизни. Собственно, подумал Никита, кто станет спорить с тем, что жизнь – странный – кафкианский «Процесс», в процессе которого человек тщится превратить ничто в нечто, чтобы в конечном итоге получить еще большее (если количественные показатели тут уместны), так сказать, абсолютное ничто.
Он закрыл глаза, желая (по методу Саввы) узнать, что есть национальная идея (мелькнула нехорошая мыслишка, что она как раз и есть ничто, упорно превращаемое в нечто) и увидел… летящую в небе сквозь ночной дождь дельтапланеристку.