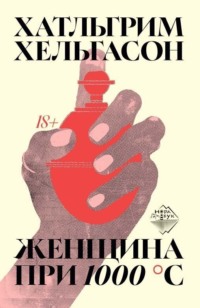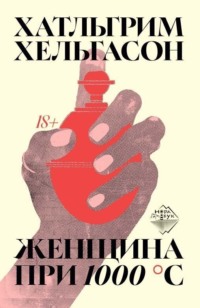Полная версия
Автор Исландии
«Отто Ватне». Его же давным-давно продали за рубеж. Сейчас он, небось, плавает по каким-нибудь портомойным озерам Южной Америки с останками правительства Исландии в кубрике. Значит, я перенесся во времени? Даже и не верится! Наверняка я когда-то о таком читал в завиральных книгах, которые накропали всякие грезобородые фаллисты из американских академий наук, – но чтобы… да что тут и думать! Радио-то не врет. Я сдаюсь. И сажусь.
– Давай почитаем! – не унимается он.
Старуха стоит у раковины и постоянно выглядывает в окно, словно капитан, который смотрит с мостика: прилагает усилия, чтоб дом плыл в надежную гавань.
А в доме качка. Мы попали в снегопад. Мне хочется вон.
Где-то в этом белом мире она отыскала уголь и задала его камбузу – плите в углу: черной шведскоязычной зверюге с трубой и четырьмя львиными ножками, – которая дает нам единственное в этой долине тепло, а сама при этом рада, что вернулась к своим обязанностям. Электричество в Хельскую долину не проведено. До сарая с динамо-машинкой тридцать метров, а видимость – всего на шестнадцать сантиметров. Девочка решает рискнуть, но бабушка и слышать об этом не хочет.
– А как же коровы, бабушка? Доить-то надо, – сквозь волосы произносит юная Эйвис.
– Да это, наверно, само собой устаканится, – отвечает бабушка и рассказывает нам о пасторе Гвюдмюнде из Верхней долины: он давным-давно потерял жену и детей, а паства от него отвернулась – и тут он затеял помирать. В последние дни он занимался тем, что – дабы избавить других от хлопот – копал сам для себя могилу на кладбище, и как раз примерял ее на себя, когда его призвал Господь. Когда его нашли, он так и лежал в ней, заледеневший и улыбающийся, и более того: «ширинка расстегнута и весь струмент снаружи: смерзся в ледышку и стоит торчком». (Я как будто слышу свою бабушку Сигрид: она была та еще похабница.) А финал рассказа был таков, что коровы так и простояли в хлеву целые три недели до тех пор, пока на кладбище не пришли люди, и заботилась о них собака. «Собака коров доила».
– А как, бабушка? Как собака может доить корову? – спрашивает мальчик.
– Ну, в сосках-то разница есть? Какая разница, один или четыре? – отвечает она, холодно смеется и всматривается в пургу на улице, словно заметила в кутерьме волн прямо по курсу пассажирский пароход. Затем она подносит к носу кончик фартука и утирает каплю.
– Бабушка, а «струмент» – это что?
– Это то, что у парня есть, а у девки нет, им ребятенка производят на свет.
Так проходит этот день: невероятные истории, бесконечные расспросы мальчика – но вот мы наконец принимаемся за учебу. Я учу его читать. Все получается неплохо, если принять во внимание наш учебный материал: «Надгробные проповеди пастора Бьяртни Хельгасона», изданные в Рейкьявике в 1917 году. В свете последних новостей весьма новый учебный материал, хотя он и отсылает к прошлому. Преподобрый Бьяртни жил в середине девятнадцатого века, а сейчас Постреленок читает нам одну его весьма живенькую надгробную речь по некой Каритас Магнусдоттир, дочери пробста, рожденной в Ватнсфьёрде в Исафьярдарсисле в 1777 году.
– «П-р-о-ш-л-о б-е-з м-а-л-о-г-о д-е-в-я-н-о-с-т-о л-е-т с т-е-х п-о-р к-а-к п-о-к-о-й-н-и-ц-а…» А что такое «покойница»?
– Женщина, которая умерла.
– Как мама? Мама однажды призрака видела. У нас в озере призрак есть. Он там погиб.
Это озеро, кажется, называется Хель. В нем лежат два брата. Уже триста лет лежат. Так мне старуха сказала. И среди их костей плавает форель – рыба, которую здесь никто не хочет видеть на столе. Здесь шестнадцать поколений прожило в голоде и семь тысяч поколений форелей умерло в глубокой и тучной старости. Голод – призрак, взрощенный суеверием, вскормленным глупостью, которая сожительствует с верой. Кто первым порыбачит в этом озере, тот слопает форель со вкусом эпохи заселения Исландии. Мальчик продолжает:
– «П-р-о-ш-л-о б-е-з м-а-л-о-г-о д-е-в-я-н-о-с-т-о л-е-т с т-е-х п-о-р к-а-к п-о-к-о-й-н-и-ц-а л-е-ж-а-щ-а-я з-д-е-с-ь в г-р-о-б-у в-п-е-р-в-ы-е л-е-г-л-а в к-о-л-ы-б-е-л-ь…» Сперва легла в колыбель, а потом в гроб? А вставать ей было вообще нельзя? – спрашивает он, сделавшись кладбищенски-серьезным из-за жестокого жребия этой Каритас Магнусдоттир.
Я в ответ предлагаю найти более удачную книгу для чтения, но он и слышать не хочет. По этой книге училась читать мама, а потом сестрица Виса. Впрочем, надгробные проповеди хорошо подходят к атмосфере в этой маленькой холодной кухне на востоке страны. Непогода все не унимается, вцепляется в крышу, колотится в окна. Сгущаются сумерки – с двумя свечками и старой керосиновой лампой, которую старуха приносит из своей комнаты. Девочка продолжает вязать этот свой лоскут, сидит, опустив голову, спрятав лицо под волосами. Старуха стоит на страде у раковины и плиты, вылавливает из кастрюли кровяную колбасу. Я уже настолько освоился здесь, что соглашаюсь на одну порцию. Внезапно проснувшийся у Господина аппетит, кажется, радует этих грустных людей, но за едой мы молчим: все сыты большими вопросами. Бабушка продолжает стоять у буфета и ест как охотник – держа в руке горячую колбасу, от которой отрезает ножом кусочки, и не спуская глаз с высоких волн темноты за окном. Я воюю со своей порцией. От нее красиво поднимается пар при холодном свете свечей. Ужинать, когда у тебя нет аппетита, – все равно что читать книгу, когда тебя посетило вдохновение. Кровяная колбаса. Давно знакомый приятный вкус: с первым кусочком мне вспоминается целый дом. Выкрашенный в белую краску дом на улице Лёйвар… Лёйг… Лёйваусвег. И Гюннвёр, моя старая кухарка. Я некоторое время гостил у Гюннвёр, я тогда книгу писал. Я всегда писал книгу… И вкус такой же специфический… да, это изюм. Она кладет в кровяную колбасу изюм, совсем как Гюннвёр.
– Наверно, папа сейчас голодный?
– О, он с собой еды взял и акулятину. Ничто не сравнится со стухленной акулятиной во время бурана, – произносит старуха.
– А когда он вернется?
Бедняжечка. Папин сынок. И вдруг мне хочется его подбодрить, тем более я это вполне могу. В голове у меня возникает картинка, на которой Хроульв идет к дому и ведет с собой овцу и собаку. Эта картинка сопровождается какой-то пророческой уверенностью, к которой мне нельзя привыкать. Ну конечно, я сейчас не только умею смотреть чужие сны – я еще и стал видеть будущее! Хотя в свете новейших сведений это понятно. Здесь же один сплошной повторный показ. Мне выпало вновь переживать собственную жизнь. Разумеется, я мертв.
– Он вернется, – говорю я скучно-мудрым тоном и впихиваю в себя кусок номер четыре.
– А когда вернется? Откуда ты знаешь?
– Вернется, как только стихнет буран.
– Да, это знает всезнающий, – произносит капитан, отправляя в рот очищенную картофелину.
Осилив один тоненький кусочек кровяной колбасы, я немного повеселел и считаю себя вправе немедленно выпить одну чашку кофе. Меня даже посещает мысль, что в этот час в кухне в Хельской долине весьма уютно. Несмотря ни на что. Такое кухонное единство перед лицом бурана. Эдакое печурочное прибежище посреди войны. Во мне вспыхивает желание побыть одному – я должен зафиксировать эту картинку – и я не буду описывать облегчение, озаряющее эти лица, когда я со светской вежливостью спрашиваю насчет… э-э, удобств.
В скверном зеркале над раковиной в туалете я вижу человека. Лицо. Так и есть: это я. Я на всякий случай спросил у него имя, но ответа не получил. Но этот печальный образ все же оказался гораздо бодрее, чем я опасался. Даже на щеках проступал бледный румянец – или это обман зрения из-за света свечи? Раньше я об этом не задумывался – а теперь заметил, что я без галстука. Я расстегнул верхнюю пуговицу и стал осмыслять свое положение в этом новом мире. А вдруг я – участник какого-нибудь новомодного «проекта», в котором старикам «дают возможность вновь пережить былые времена»? Специалисты по человеческому «я» воздвигли этот хутор, как воздвигают декорации, с новостями по радио, календарями и актерами-любителями, и запустили туда меня в надежде перезапустить мой мозг, освежить память. Наверняка они где-то тут, за фальшивой стеной. Только они забыли надеть на меня носки и повязать галстук. Нет, что за черт… Я перестал думать всякую ерунду и вышел. В туалете я ничего не сделал, но все же позволил им пребывать в блаженной мечте о результатах писательского труда.
Этой ночью мальчику приснился подводный сон. Он парил в голубом море вместе с овцами. Те гребли ушами. Затянутый сон, холодный, меня он не увлек. Я склонился набок и стал смотреть просветительский фильм о дамской моде начала века в – судя по всему – Бостоне или каком-то другом новоанглийском городе. Очень даже неплохой фильм. Все ясно. Девочке хочется городской жизни.
– Значит, нам так и суждено тут загнуться? В этой проклятой темноте? – говорит она на следующий день своей бабушке с неожиданной горячностью. – И есть какую-то заледенелую тухлую мороженую треску?! – кричит она на свою бабушку. Старуха удивленно смотрит на нее. Раньше никто не видел, чтоб этот ребенок злился. Горячая злость в студеной кухне. От лица Эйвис поднимаются струи пара, а из ноздрей Души Живой – хилые облачка. Я сижу за кухонным столом, закутанный в покрывало. Мальчик большими глазами смотрит на них из-под шапки. Девочка и бабушка. В сыром воздухе между ними – умершая женщина. И старуха пытается перетянуться через эту замерзшую могилу:
– Успокойся, ягненочек мой, а то ты так себя ведешь, как будто сейчас прямо конец света будет!
– А вот возьму и выйду!
– Да не выйдешь ты никуда! Ни на шажочек!
Но она уходит. Девчонку-подростка доконали холод и отсутствие света. Уголь вот-вот закончится, а буран все не думает кончаться – я такого не припомню. Она направляется в сарай. Видимость – руки своей не видать. Буран бушует словно война, шпарит как из немецкого пулемета. А она все равно собирается выйти. Наверно, от угла дома до сарая с динамо-машинкой протянута веревочка как раз на такой случай. Но девчонка? Двенадцатилетка? Она справится? Пристройка – словно преддверие ада, и мы лишь беспомощно наблюдаем, как ее ярость мощным рывком открывает дверь, а за дверью – неистовство. На пол внутрь дома валится часть сугроба, воздух наполняется мелким снежком. Она перешагивает через него и исчезает за порогом.
Старуха бормочет под нос:
Убежал малец в бурани боится.Ах, не приживется ону лисицы.Затем она снова бредет в дом, шаркая домашними тапочками – этими шерстянками с мозолистой подошвой. Мальчик бежит за ней с расспросами. Я задерживаюсь. Здесь стоит пузатая усталая на вид бочка с клеймом «СИГЛО», словно колодец из старой селедочной сказки[17]. Она напоминает мне Бёдди Стейнгримса. Здесь стоит крепкий запах животных на разных стадиях бытия. Вяленые пикши, копченые бараньи окорока, седло, бараний рог, изгрызенные кости на полу. Галоши фермера – в таком виде, в каком с ними расстался писатель. В маленькой аптеке Ибсена в Гримстаде его ботинки лежали в стеклянной витрине. Я бы не смог влезть в его обувь. Она мне на два размера мала. У великого писателя ноги-невелички. В Акюрейри в «Доме Давида» до сих пор хранят рубашки Давида Стефаунссона[18], отутюженные, сложенные, белоснежные. На буфете стоит ополовиненный пакет кофе 1965 года. Норвежцы, видимо, Ибсена обратно не ждали. Та витрина была заперта. А для исландцев поэты не умирают. Они всегда могут вернуться, подогреть себе кофе и надеть чистую рубашку. А где же теперь мои рубашки и обувь? Моя Ранга следит за тем, чтоб складывать мои рубашки и чистить ботинки. Галоши фермера мне не подходят: велики на два размера. Ботинки Ибсена запросто уместились бы в них. Жизнь – больше, чем литература. А это самовозвеличивание у нас, писателей, – просто раздражает! Мы пытаемся казаться значительными и делаем вид, будто останемся в веках из-за того, что вяло копошимся у кромки жизни, этой гигантской высокогорной пустоши, которую каждый день надо завоевывать, атаковать целым полком мужества, подзуживать ее пулеметными очередями нынешнего дня. Наполеон. Хроульв. Вот это были люди! Хроульв был автором собственной жизни. И он пошел гораздо дальше меня. На целый день пути при зимнем буране с севера, чтоб спасти одну лохматую душу с двумя ягнятами. А я едва мог заставить себя сходить в библиотеку за историческим источником. Хроульв был более великим писателем, чем я. Галоши сорок четвертого размера.
Проходят долгие холодные минуты, – но вот мальчик кричит: «Смотри! Свет! Бабушка! Она смогла!» – и нам становится легче дышать. В снежной слепоте тускло зажигаются две лампочки, хотя самой динамо-машинки сквозь бушевание вьюги не слышно.
Я задерживаюсь, чтоб подождать девочку. Сначала в пристройке, затем в кухне. Минуты идут. Полчаса. Вот уже начало смеркаться. Нет, сейчас мне не все равно. Откуда у меня такая ответственность? Я выхожу из кухни и вновь возвращаюсь в сапогах, которые мне велики, и затрапезном пальто, которое нахожу на вешалке, и ищу шапку и варежки. Старуха бормочет:
– Да вернется она, раз у нее в крови злость кипит. Вот увидишь. Ах, она там что-то насчет машинки разнюхивает.
Мальчик дает мне свою шапку – мой маленький соратник, – а Душа Живая продолжает ворчать, экая упрямица, и вот – я просто выхожу без варежек!
Я соображаю – когда мне с трех попыток удается оторвать от косяка примерзшую входную дверь, – что я не выходил из дому с тех самых пор, как прибыл сюда. Сейчас явно не самая подходящая погода для того, чтоб девяностолетнему отправляться на прогулку – но вперед же! Я окунаюсь в пургу, с голыми руками против дьявола. Пробираюсь сквозь сугроб у пристройки, а затем направо, вдоль стены дома, навстречу граду стрел, точнее, стрелам града, до угла, где горит фонарь. В очках и хорошо, и плохо. Я ни черта не вижу – но хотя бы глаза целы. Я отправляю свои пальцы – пловцов, чтоб они нырнули за канатом, и тотчас отдергиваю их к себе, скованный, как наручниками, стужей, но собираю все силы и, немного пошарив руками, нахожу этот канат. Я пробираюсь вперед, а фонарь светит мне в спину, иду, держась за канат, более-менее держа курс на замерзший, как каток, двор (хотя мне явно далеко до той скорости в сто километров в секунду, которую выдает подсвеченное фонарем неистовство), но мне приходится постоянно напрягать все силы, чтобы вырвать канат из замерзшей травы. Вскоре свет исчезает и канат становится моей единственной путеводной нитью. Белоснежка, мяукни мне![19] По-моему, я уже слышу тявканье динамо-машинки – но тут канат без предупреждения вдруг исчезает в пурге. Скрывается, как лисица – в нору. Но я все же удерживаю лису за хвост. Дергаю – а оно застряло. Наверно, там сугроб. Подбредаю ближе. Точно, сугроб. Вдруг передо мной встает гостиничный номер в Болонье. Зима 52-го года. Стены там были красными, печка теплая, хорошая. Да. У меня целых два дня ушло на то, чтоб найти гостиницу, где бы топили целый день. Я сидел там и писал, а в голове у меня был буран… Да, правильно, Болонья. Я начинаю щупать, шарить, сметать, копать, разгребать руками… применяю все эти слова, способные помочь старику, но в конце концов сдаюсь. Мне нужно найти другие слова. Надо подойти к материалу с другой стороны. Мне нужно спасти девчонку, так? Но кто она мне? Чуть важнее, чем эпизодический персонаж романа? Но писатель не дает своим персонажам погибнуть во время бурана. Он вообще не дает им погибнуть. Нет. Он их сам убивает. Да, а сейчас нить повествования скрылась в сугробе, и я должен довериться интуиции: я иду на звук. Динамо-машинка. Да, «иду» – пожалуй, слишком сильно сказано. Это, пожалуй, чересчур. НО ЗДЕСЬ И ТАК ЧЕРЕСЧУР! Слишком много слов! У этих стариков на небесах какой-то словесный понос. Слова без устали щелкают по моим очкам, я пытаюсь протереть стекла, а потом начинаю прорываться в сторону сарая, падаю, вот зараза, буран пробирается под одежду, я чувствую, как у меня по спине шарят холодные лапы, и больше не разбираю, где верх, а где низ. Девяностолетний человек барахтается в снегу. Наверно, выглядит потешно. Вот буран задул мне в ноздри. Это означает, что я лежу на спине. Какого черта. Мне кое-как удается подняться, и я ползу на четвереньках (передние лапы босы) на звук, и через долгое время я стою – правда, на коленях – нет, лежу – перед дверями этого шумного святилища. Да, сарай. Это он, почтенный! Хорошо бы сейчас нашарить рукой какую-нибудь дверную ручку. My kingdom for a knob![20] Хотя – что они понимают, местные боги, эти деревенщины! Можно подумать, они в Шекспире начитаны! Я посылаю своих пловцов на поиски дверной ручки. Они уже достигли стадии всетерпения русских «моржей» и плывут на спине. Ну что, ребята, вам это что-то принесет? Ну, дело ваше. Они съежились в костяшках и отчаянно плавают вверх-вниз по стенке сарая. Надеюсь, я не с задней стороны зашел? Неистовая снеговерть толкает меня в спину, и я чувствую, как холод просачивается в сапоги и жалит мои коленные чашечки сквозь английскую шерсть, но Хроульвово пальто выдерживает. А сам-то он, болезный, почему не стал его надевать? Наверняка ведь он сейчас голый по пояс, чтобы вьюга сделала ему массаж спины, – а потом он нырнет в сугроб перед обедом. Я на ощупь иду вдоль стены сарая, уклоняясь от бури, по ляжки в сугробах – и натыкаюсь на старого знакомого – канат. Автор снова нашел нить повествования. И сейчас для него что-то прояснится. Сейчас ему что-то станет видно в этом тексте, во всей этой гуще автоматического письма, низвергающейся с небес. Я держусь за эту нить, перешагиваю через нее и попадаю за угол – в то, что мы, исландцы, зовем убежищем от бури, а цивилизованные народы – «черти расперделись»: здесь ветер дует вертикально. «Ниже 7» – вот как назвали бы это в Метеоцентре. В общем, здесь все одно к одному. В этом царстве духа дует и сверху, и снизу, и с небес, и из преисподней. Без Бога не до порога… Нет, порог-то как раз тут, то есть дверь. Дверной ручки я не нахожу, а нахожу дырку. А в дырке веревка. Я стал лучше видеть. Очки больше не заслоняют мне взор. Очки? Да, а где же очки? Сейчас вой мотора заглушает вой бурана. Я отгребаю снег от порога ногами. Это занимает много времени. А еще больше времени уходит на то, чтоб согнуть пальцы. А вдруг ее нет в сарае? Пацанка двенадцати лет. Кто знает, на что способно такое существо? А может, ей было наплевать, что она не вернется? И в ее глазах читалось желание покончить с собой? Подростковый бунт? Когда вообще точно можно сказать, о чем думает другой человек? Наверно, никогда. И тем не менее это полвека было моей работой: догадываться и выдумывать, о чем думают другие. Двенадцатилетняя девчонка, мужчина в летах, старуха… «Однако лучше всего этому автору удается создание персонажей…» Да, так писали критики. Но сейчас от них проку мало, они кудахчут по своим клеткам на мозгогнездилищах в столице. Я отгребаю эти мысли вместе с последними комьями снега прочь от порога, и, хотя рука у меня сейчас слишком задубела, чтоб держать перо, ей все же удается подцепить пальцами веревочку и рвануть дверь сарая… Темно. Темнота с крепким нефтяным запахом и адским шумом. Сам сарай величиной с небольшой туалет, и машинка грохочет посреди него, словно черная блестящая зверюга неизвестного вида, привинченная к полу. От нее исходит нечеловеческое тепло, и я приближаюсь, даю глазам время разглядеть что-нибудь в этой темноте с помощью бледной снеговой белизны сзади. Я по-пенсионерски выкрикиваю: «Ау!» – но ответа нет. Я лучше всматриваюсь в глубину сарая и еще раз кричу «ау!». Машинка хохочет надо мной, и мне кажется, что сейчас я дошел в своей жизни до конца этой страницы. Что дальше?
Мне удается проковылять круг вокруг сарая, а потом я нахожу канат, и он ведет меня тем же путем обратно, к фонарю на углу пристройки. Сугробы подросли. Зараза, черт, дьявол, Фридтьоув адский! Не с пустыми руками же мне возвращаться из этой вылазки? Куда же она запропастилась? Я ее потерял? Белоснежка, мяукни мне! Уши у меня настолько онемели, что я больше не слышу бури. Град хлещет мне по спине, словно «дождь» на пленке в немом фильме. Да, прямо как в «Иване Грозном» Эйзенштейна. Я ощупью иду вдоль пристройки, но сейчас сугробы стали такими высокими, что стену потрогать нельзя – а где входная дверь? Входная дверь-то где? Это не пристройка? Тут буря изо всех сил чихает и уносит меня за угол дома, далеко от фонаря и… я успеваю лечь плашмя, пока она не унесла легкого как перышко старика на пустошь. С трудом встаю на четвереньки и на костяшках пальцев – холодных культях – заползаю в укрытие у стены, в безветрие и тень, там темный холодный сугроб, в котором можно сидеть. Вот в нем-то она и сидит: маленькая съежившаяся птичка, вся заснеженная в белом мраке, и глаза – как два камушка в сугробе. Я протягиваю руку. Приятно нащупать рукой варежку – ведь своей-то нет. Приятно нащупать рукой пальцы – ведь своих-то нет.
Глава 7
– А ну, выставь его в прихожую, пока мы едим! – выпалил Хроульв (неразборчиво, потому что губы у него потрескались от холода) мальчику, который захотел дать Барашку какао-суп. Барашек – новый член семьи, ягненок мужского пола, родившийся весной; он совсем без мозгов и замучил нас тем, что вечно твердит одно и то же. «Ча-аю!» – целый день блеет он из прихожей. Разумеется, он – британский аристократ, душа которого отбывает наказание, с ног до головы одевшись в исландскую шерсть.
– Ча-а-аю! Ча-аю хо-о-чу!
– Папа, но он же голодный! Можно ему какао-супа налить? – спрашивает мальчик. Он целый день твердит о какао-супе. Здесь это самая что ни на есть праздничная еда: уже почти Рождество. Здесь отмечают благополучное возвращение из снегов и с гор. Какао-суп – это их шампанское.
– Какао-суп, хух! А может, ему еще и стол в гостиной накрыть, и бабушку попросить ему блинов напечь, баранешке твоему?
– Но ему нужно чего-нибудь горячего, папа, он до сих пор мерзнет. У него от холода драже.
– Наверно, лучше дать ему чаю, – лаконично заявляю я.
Хроульв вперяет в меня взгляд, выковыривает из широкой щербины между зубами ягнячью коленную чашечку трехмесячного возраста, цокает языком и собирается что-то сказать, но у него выходит только:
– Ху!
Он даже более сердит, чем раньше. Да и я немного сердит. А как же иначе? Ведь у меня пальцы обморожены – едва могу держать ложку для супа – и легкие отшиблены. Хотя, учитывая мой возраст и предыдущие занятия, я еще не сильно замучился.
– Ах, надо было мне это сказать, – сочувствует мне старушка, наливает воду в кастрюлю, а потом ворчит, что Хроульв в горах совсем с ума сошел, «а это и раньше так бывало». Отрицать это нельзя. Хозяина «непогода переменила», как выражались во времена сельских почтальонов[21]. Я вспоминаю рассказ об одном бродяге, который на целую неделю угодил в буран на Хетлисхейди и потом заговорил фальцетом. С женщинами у него после этого не ладилось. «В него баба вселилась», – говорила моя бабушка Сигрид. Я не хочу уличать Хроульва в гомосексуализме, но в глазах у него проблескивает что-то новое – что-то он видел. Он как будто на несколько лет постарел. Он уже не тот – как Барашек, который блеет в прихожей и просит чаю.
– Все скулишь, как сучка в сугробе, – говорит он своей теще. – Мне оленьи рога слушать не надо…[22] А девка-то где?
– Пусть отоспится, она, болезная, мочевой пузырь застудила и уши отморозила.
– Хух. Но коров-то она не ушами доит!
– А еще она, кажется, руку себе свихнула, когда машинку эту поганую запускала. У нее плечо вон как распухло!
– Она растет. А это все одни сплошные оленьи рога, – произносит он и уходит на чердак. Бедный мужик! Оленьи рога? У него галлюцинации начались. Он съел глаза того ягненка и стал видеть все, что видел тот?
Это было героическое зрелище – почти во всем похожее на картинку, возникшую у меня в голове, – когда хозяин возвращался домой вниз по склону горы, вдоль замерзшего озера в сопровождении троих четвероногих: собаки и двух овец. И чем больше он приближался, тем яснее становилось видно, что на плечах у него туша: ягненок, которого съели сегодня же вечером перед какао-супом, сестра Барашка. От всех четверых веяло неким непостижимым спокойствием, некой сплоченностью, словно они были единой душой и единой материей: никакой разницы между человеком, собакой и ягненком. Непогода всех подружит. Человек шел первым, а овца бежала по кромке воды за собакой, словно они были сестрами из одного стада. Замыкал шествие Барашек. За собакой двигалась луна. Я видел, как над животным реет полумесяц на красном поле: турецкий флаг. Странное видение, просто слов нет!
Мальчик приветствовал своего отца тысячью вопросов, а ответ получил на один. Хроульв скоротал время тем, что перерезал ягненку глотку, а потом по кусочку стал отправлять в рот себе и собаке. Скорбящую мать он утешил стихами, хотя Сигрид вообще-то рифмы не любит. Затем он сам обратился в холодную дрожь, предоставив мальчику греть уши над рассказом о студеных свечко-днях в лачуге и чтить память, которая для него – не более чем помет на леднике. К ночи лицо хозяина оттаяло, что сопровождалось весьма гологрудыми снами. Там на замерзшем озере были миниатюрные ледяные девушки, безрукие и с большими грудями; согнувшись под тяжестью бюстов, они буквально ползли по льду. Это было что-то вроде балета, изображенного Сальвадором Дали, что бы это ни значило.