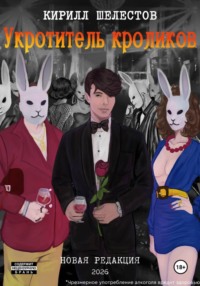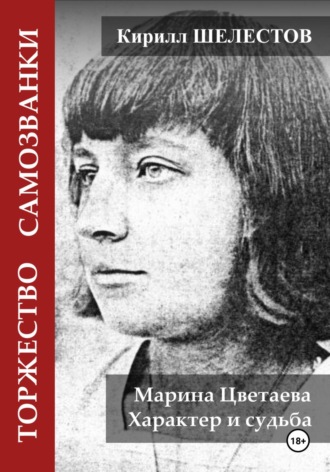
Полная версия
Торжество самозванки. Марина Цветаева. Характер и судьба

Кирилл Шелестов
Торжество самозванки. Марина Цветаева. Характер и судьба
Я виртуоз из виртуозов
В искусстве лжи.
М.ЦветаеваОна подгоняла всё под себя, под свой произвол, не проникая глубоко в суть вещей.
Ф. Степун о Цветаевой.Ем ваш хлеб и поношу!
М.ЦветаеваЯ, под небом, одна. Отойдите и благодарите.
М. ЦветаеваОт автора. Эта книга не задумывалась как академическая. Из-за частых переездов мне случалось сверять цитаты по электронным изданиям, чья нумерация не всегда совпадает с книжными. Приношу свои извинения за то, что не все ссылки оформлены надлежащим образом, для содержания это значения не имеет. Источники излагаемых фактов, тем не менее, везде указаны.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая. Рождение мифа и сотворение кумира. Царь-девица. Салатом в морду
Повеситься Цветаева грозилась лет с двенадцати и пугала этим окружающих так часто, что ей уже мало кто верил. В 1939 г. она в очередной раз провозгласила свой отказ от жизни в одном из самых патетических своих стихотворений («Отказываюсь жить…»). Его любят цитировать ее биографы, желая придать ему пророческий характер и забывая порой упомянуть, что оно написано в связи с захватами немцами Чехословакии, а не в результате глубоких личных переживаний.
После столь решительного заявления Цветаева, однако, продолжила свою беспокойную жизнь; даже перевернула в ней новую страницу, вернувшись в СССР, хотя о невозможности этого она столь же решительно заявляла восемь лет кряду. Заявляла, кстати, уже подав документы на советский паспорт. Пастернак добродушно писал одному литературному чиновнику, которого просил ей помочь, что ее угрозы свести счеты с жизнью не стоит воспринимать всерьез.
Но Цветаева все-таки повесилась, неожиданно для многих, в первую очередь, для самой себя. Случилось это 31 августа 1941 года, в Елабуге, Богом забытой дыре, куда она в панике бежала из Москвы, опасаясь скорого прихода немцев. Обнаружила ее квартирная хозяйка, вернувшаяся домой с общественных работ, однако вынимать из петли до прихода милиции побоялась, так что Цветаева еще долго висела в темных сенях тесной избы, где они с сыном снимали угол. На ней был большой фартук, в котором она жарила рыбу. Рыба так и осталась на плите в сковородке.
Перед смертью она написала три лихорадочные бессвязные записки. Первая предназначалась шестнадцатилетнему сыну Георгию, которого она называла Муром и с которым накануне в очередной раз поссорилась. «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».
Вторая записка – к Н.Асееву, занимавшему важный пост в Союзе советских писателей. Асеев когда-то состоял в свите Маяковского, пользовался его благосклонностью. В своем известном стихотворении Маяковский отзывался о нем так: «(…) Есть у нас Асеев Колька. / Этот может. Хватка у него моя. / Но ведь надо заработать сколько!/ Маленькая, но семья».
«Колька» в момент написания этих строк давно уже распечатал четвертый десяток, так что мог претендовать хотя бы на «Николая», но Маяковский со своим окружением не церемонился, к тому же «Николай» не втискивался в размер. Надо отдать должное Кольке – наставника он не подвел, охулки на руку не положил. При внешней покладистости и обтекаемости, он умел уцепиться крепче собаки Баскервилей. После смерти Маяковского Колька сделал отличную чиновно-литературную карьеру, жил, по советским меркам, роскошно, уже не отказывая ни в чем своей «маленькой, но семье», и целился на сталинскую премию.
Ему нравились ранние поэмы Цветаевой, в чем он не раз признавался Пастернаку, которому они тоже когда-то очень нравились. Благодаря Пастернаку, Цветаева после возвращения в Москву сблизилась с Асеевым; они время от времени встречались. Асеев делал ей пышные и пустые комплименты; Цветаева, падкая на лесть, воспринимала их всерьез и гордилась знакомством с ним. Похоже, она считала его одним из тех великодушных доброжелателей, которые помогали ей во Франции. До старости сохраняя замашки enfant terrible, уверенная, что окружающие обязаны о ней заботиться, она не понимала, вернее, отказывалась понимать, что отношения среди советских писателей совсем иные, чем в русском зарубежье, что бескорыстной помощи они не подразумевают.
Дочь Цветаевой Ариадна впоследствии гневно называла Асеева убийцей своей матери, поскольку тот так ни в чем Цветаевой и не помог. Но посторонние люди вовсе не обязаны нам помогать, да и обмылок не способен убить. Поскользнуться на нем, конечно, можно, но разве он в этом виноват?
К Асееву, его жене и свояченице и обращалась Цветаева. «Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь – просто взять его в сыновья – и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 450 р. и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына – заслуживает. А меня – простите. Не вынесла. МЦ. Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете – увезите с собой. Не бросайте!»
В спешке и горячке иные фразы оборваны, но даже в предсмертной отчаянной мольбе она не сумела удержаться от назидательной интонации, столь ей свойственной («Любите как сына – заслуживает»).
Третье послание не имеет адресата.
«Дорогие товарищи!
Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом – сложить и довезти в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей.
Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мною он пропадет. Адр. Асеева на конверте.
Не похороните живой! Хорошенько проверьте».
Эти письма биографы Цветаевой приводят как доказательство ее беззаветной любви к сыну. Какие странные, однако, представления у этих дам – биографов Цветаевой, – о любви и материнстве!
Разве можно счесть ее самоубийство проявлением сильных материнских чувств? Бросить шестнадцатилетнего парнишку, с трудным характером, всего два года назад прибывшего из Франции, одного без денег, без родных, в малознакомой ему стране, охваченной пламенем войны! Это означало обречь его на нищету, голод, унижения и скорую смерть. Все это он испытал сполна и погиб всего три года спустя при неизвестных обстоятельствах. Он был похоронен где-то в общей могиле. Какая мать пожелает подобной участи сыну? Три соль и ми-бемоль – мотив судьбы, – мы его еще не раз услышим.
Цветаева всегда отличалась крайней импульсивностью и непоследовательностью, но в ту роковую минуту она, видимо, была совсем не в себе.
* * *Зачем, скажем, в преддверии самоубийства жарить рыбу? Ну не странно ли было предполагать, что Мур, возвратившись домой и найдя тело повесившейся матери, преспокойно сядет за обед?
А как можно было просить Асеева и его «маленькую, но семью» усыновить Мура и воспитать его «как родного»? Мура и Эфрон-то не воспитывал «как родного», проявляя полное к нему равнодушие. Что же касается чужого ей трусоватого Асеева, то он долго колебался прежде чем поддержать ее вполне невинную просьбу о переселении из Елабуги в Чистополь, где у нее появлялись шансы найти хоть какую-то работу, чтобы свести концы с концами. И вдруг – такая ответственность за подростка, с которым родная мать уже давно не справлялась! Жена же Асеева и ее сестра Цветаеву и вовсе откровенно не любили за ее надменность, о чем Цветаева прекрасно знала. Приходя к Асееву, она едва удостаивала их приветствием.
Третья записка – представляет собой свод фобий и больных фантазий. К каким «товарищам» обращается в ней Цветаева? Явно не к квартирной хозяйке и ее мужу, значит, к каким-то посторонним? Но откуда в Елабуге возьмутся некие посторонние люди да еще в момент ее смерти? Зачем объяснять им, посторонним людям, что Мур с ней пропадет? Каким образом эти посторонние люди могут помочь ему в учебе?
Почему пароходы «страшные»? Чем они страшные? Цветаева благополучно доплыла с сыном на пароходе от Москвы до Елабуги и потом еще плавала в Чистополь и обратно. И какое значение имел багаж? Кто думает о багаже в такую минуту?
Животным ужасом веет от приписки в духе позднего Гоголя, с просьбой «хорошенько проверить», прежде, чем хоронить. Описывая чужие смерти, Цветаева, старалась изобразить их как можно мучительнее и страшнее, выдумывая леденящие кровь подробности. Неужели, решаясь свести счеты с жизнью, она всерьез опасалась, что некие граждане, едва вынув ее из петли, тут же зароют где-нибудь поблизости, без медицинского освидетельствования?
Цветаева жила вымыслами и иллюзиями, правду жизни она отвергала, но вечно так продолжаться не могло. Запутавшись в своих метаниях, загнав себя в тупик, не умея и не желая отвечать за последствия своих внезапных необдуманных поступков, она, в отчаянии и страхе перед будущим, зажмурилась, сунула голову в петлю и прыгнула.
«Всё в моей жизни: «Tu l’as voulu, Georges Dandin!» («Ты этого хотел, Жорж Дандэн!»), – с вызовом писала она Оболенскому в 1925 году. Но такого конца она себе не хотела, да и кто бы хотел?
* * *Предсмертное письмо – важный документ; человек, уходя из жизни, подводит итог своего бытия. Маяковский и Есенин, смерти которых Цветаева посвятила целый цикл стихов, обдумывали и сочиняли прощальные послания не один день. Но Цветаева, в чьих дневниках и письмах слова «повешусь» и «удавлюсь» встречаются едва ли не чаще чем «люблю», оказалась совершенно не готова к смерти.
«Я тяжело больна, это уже не я». Возможно, это стало ее первым и невыносимым пробуждением в реальности.
Она и впрямь перестала быть собой. Негодующей, бурлящей, хвастливой, обиженной на весь мир Цветаевой более не существовало. Была затравленная, запуганная седая старуха, в спущенных чулках, несшая бессвязную околесицу, мечтавшая о работе судомойкой в столовой советских писателей.
Кто виноват в ее трагедии? Русский Бог, в которого она не верила? Черт, невестой которого она воображала себя в детстве? Сталин, которому не было до нее дела? Безвольный, как водоросль, Эфрон, верный ей до последнего вздоха своей чахоточной груди?
Она заслужила свою судьбу, – обронил Адамович, ее не любивший. Так думали многие.
* * *Цветаева с раннего детства воображала себя героиней античной драмы; вся ее поэзия – описание собственных страданий на фоне рыданий хора. Тому, кто намерен стать героем, не стоит ожидать благостной кончины в собственной постели в окружении любящей родни. Герои гибнут, – собственно, это единственный способ стать героем.
Цветаева повесилась, как Антигона, Иокаста или ее собственная Федра, – произнеся напоследок громкие слова о «безумной любви» и выразив невыполнимые пожелания неведомым зрителям. Кстати, только у Цветаевой Федра вешается; у Сенеки она закалывается мечом, у Расина принимает яд. К разочарованию поклонниц Цветаевой, то было не пророчеством, а осознанием. О ком и о чем ни писала бы Цветаева, она всегда писала о себе и всегда восторженно, возвышенно. И хотя в своих стихах и письмах она почти ежедневно «вонзала нож в сердце» «по рукоять», проворачивала его и затем запивала смертельную рану ядом, в глубине души она знала, что ни на нож, ни на яд у нее не хватит духу.
Противостояние судьбы и воли – великая тайна мироздания, на которую религия и философия дают противоречивые ответы. Творцы ли мы собственной судьбы или марионетки в руках чужой, непостижимой власти? Дают ли нам сознание и воля свободу выбора? Не являются ли они, в свою очередь, лишь свойством нашего характера, который мы не в силах изменить? Волен ли волевой человек?
Впрочем, применительно к Цветаевой вопрос о том, могла ли она, жаждавшая подчинить весь мир своим фантазиям, изменить свою собственную жизнь хотя бы в одном дне, одном часе, – второстепенен. Важнее другое: составлял ли ее мощный бурный дар единое целое с ее мятежным взрывным характером? Мог ли он вместиться в человека чуть менее эгоцентричного, недоброго и мстительного; чуть более терпимого и любящего? Получила бы русская поэзия в этом случае великого поэта, которым объявляют Цветаеву ее поклонницы и которым она в действительности никогда не являлась?
* * *Смерть ее осталась незамеченной и в СССР и в эмиграции, где она успела со всеми рассориться. В мире полыхала война, было не до Цветаевой. Лишь мягкосердечный Пастернак мимоходом огорчился при мысли, что Цветаева, возможно, повесилась на той самой веревке, которую он дал ей в дорогу – перевязать чемодан.
Эту злосчастную веревку будут потом упорно мусолить цветаевские биографы, пытаясь выжать из нее привкус мистики. Сама Цветаева искала мистику во всем, даже в выкипевшем чайнике, а если ее там не обнаруживалось, то Цветаева уверяла всех, что мистика там была, просто выкипела. Но в пастернаковской веревке ничего трансцендентального нет; веревка она и есть веревка; да и повесилась Цветаева не на ней, а на тонком шнуре. (А. Цветаева. Воспоминания. Последнее о Марине).
Хоронили ее 2-го сентября на средства елабужского горисполкома неизвестные люди, без обрядов и церемоний. Все произошло совсем не так, как рисовалось ей в давнем торжественно-грустном видении, когда она в очередной раз кокетничала со смертью:
О, наконец, тебя я удостоюсь,
Благообразия прекрасный пояс!
А издали – завижу ли и Вас? —
Потянется, растерянно крестясь,
Паломничество по дорожке черной
К моей руке, которой не отдерну,
……………………………………………….
Меня окутал с головы до пят
Благообразия прекрасный плат.
……………………………………………..
По улицам оставленной Москвы
Поеду – я, и побредете – вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет, —
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярыне Марине.
«Себялюбивый, одинокий сон», – пожалуй, самое точное определение ее жизни. Оно принадлежит ей самой, никому другому ее поклонницы такого бы не простили.
Ниже «болярыни» Цветаева не брала. Еще чаще видела себя Мариной Мнишек, самозваной царицей Всея Руси. Однако, благообразие, которого она была лишена в жизни, не коснулось ее и в смерти. Рук ей не целовали, казенный гроб опустили в безымянную могилу, точное место которой не известно.
Хозяйка дома с мужем на похороны не пошли, они были сердиты на Цветаеву за то, что своим самоубийством она доставила им столько неудобств. Не было на кладбище и Мура, – он боялся покойников.
* * *Биографам Цветаевой, оплакивающим ее преждевременную кончину, лучше оставить в покое злосчастную изжеванную пастернаковскую веревку и прислушаться к стуку земли о крышку дешевого цветаевского гроба. Вот, они: три соль и ми-бемоль – мотив судьбы.
Он слышался еще двадцать лет назад холодной московской зимой, когда мерзлая земля падала комьями на крышку маленького гробика, тоже дешевого и казенного. Не игрушечного, разукрашенного и раззолоченного, куда Цветаева в ранних своих сентиментальных стихах любовно укладывала красивеньких принаряженных «малюток», выдуманных ею и скончавшихся от неизвестных причин ради ее плаксивых рифм; а грубого, кое-как сколоченного. В гробике лежала Ирина, не вполне нормальная дочь Цветаевой, которую та, не любя и стыдясь ее, отдала в приют. Там девочка и умерла от голода и болезней в страшной грязи, не дожив до трех лет.
Ирину зарыли в безымянной могиле неизвестные люди, как позже зарыли Эфрона, чью фамилию она недолго носила. А еще позже – ее родную мать. Последним закопали в безымянной могиле Мура. Эфрон не был отцом Мура, вероятно, он не был отцом и Ирины. Бесхарактерный и слабый, он был вовлечен в цветаевскую орбиту силой ее мощного притяжения, потом отброшен. Летя вниз метеоритом, он успел многих погубить, прежде чем сам разбился. Три соль и ми-бемоль.
Простите, кажется, я невольно впал в ложную патетику цветаевских биографов. Скорее всего, никакого маленького гробика не было; как не было гробов у Эфрона и Мура. Ф.Степун пишет в своих мемуарах, что в те годы в Москве очереди за гробами были длиннее, чем за хлебом; людей в могилы бросали нагишом. Времена были голодные, суровые, каждая доска шла на растопку печей, на гробы для сирот их не тратили. Китайцы на рынках торговали мясом расстрелянных и только что умерших. (З.Гиппиус). Мертвого ребенка, должно быть, просто закопали, как собаку.
Достоверно мы уже никогда ничего не узнаем. Цветаева на похороны дочери не пошла, – не захотела. Не смогла себя заставить, как написала она знакомым.
* * *При жизни Цветаеву не считали большим поэтом ни в России, ни в эмиграции. Особенно беспощадны к ней были те, кому она поклонялась.
Блоку она слагала экстатические гимны, сравнивая его с Христом, а он ее не замечал, не откликался на ее кликушеские стихи к нему и дважды проигнорировал ее влюбленно-восторженные письма, переданные в руки. Его равнодушие Цветаева отчасти компенсировала в свойственной ей манере: после его смерти объявила себя его главной любовью – «суженой, но не сбывшейся».
И уверяла окружающих, что если бы Блок женился на ней, а не на Любови Менделеевой, то, несомненно, остался бы жив. Как, кстати, и Пушкин, если бы он женился на Цветаевой, а не на Наталье Гончаровой. И Орфей, если бы он выбрал Цветаеву, а не Эвридику. И, конечно, как Маяковский, который неразумно предпочел ей Лилю Брик.
Маяковский вообще занимал второе после Блока место в ее языческом пантеоне; из-за него она ссорилась с эмиграцией, ради него была готова забыть мужа. Он же высказывался о ней глумливо и пренебрежительно.
Горький, восхищение которым она унаследовала от матери, называл ее крикливой истеричкой, слабо знавшей русский язык. (Письмо к Пастернаку от 19 октября 1927 г.). Ахматова, еще один объект ее обожания, – Цветаева посвятила ей 19 стихотворных славословий да еще целый сборник, – говорила о ней насмешливо.
Брюсов, кумир ее юности, некогда написавший снисходительный отзыв о ее первом сборнике, считал ее последующие стихи лишенными художественной ценности. Мандельштам, с которым ее одно время связывали романтические отношения, называл ее поэзию безвкусной и фальшивой.
Другие выдающиеся современники упоминали о ней мимоходом и чаще всего – нелестно. Г.Иванов находил ее вульгарной, а ее литературные эссе – «галиматьей»; Гиппиус считала ее неумной и взбалмошной, Набоков – нечитаемой и неинтересной. Молодой и дерзкий Яновский и вовсе именовал «дурехой». Их Цветаева не любила, но их отзывы ее все равно бесили.
Правда, над ее «Верстами» и «Поэмой Конца» рыдал молодой Пастернак, потоком славший ей за границу письма, полные дифирамбов и любовных признаний. И ее хвалил поздний Ходасевич, лучший критик своего времени. Но Ходасевич, прежде суровый к Цветаевой, к середине тридцатых годов уже смертельно устал от одиночества, беспросветной нужды и оскорбительной войны с «Жоржиками» – Г.Адамовичем и Г.Ивановым, – которую он проиграл. Цветаева, остро враждовавшая с Адамовичем, сама сделала первый шаг к сближению с Ходасевичем, и он на него ответил. На некоторое время она стала его союзником. Союзников не бранят.
Что касается Пастернака, то он, с его мягкой женственной натурой, вообще часто заливался слезами, в том числе, и над вещами совершенно никчемными. Меры в похвалах он не знал, – черта чрезвычайно приятная, особенно для тех, кого он хвалил. С годами он остыл и к Цветаевой, и к ее творчеству. Их бурный эпистолярный роман, возникший из чернильницы и рифм, за пару лет сошел на нет. Ее поэзия стала казаться ему напыщенной и ненатуральной.
* * *Два первых сборника Цветаевой были настолько слабы, что даже самые восторженные ее поклонницы вынуждены признать их несовершенство. После появления «Сумерек» Боратынского в русской поэзии возникла традиция обдуманных, концептуальных сборников. Поэты отбирали для них лучшие стихи, композиционно связанные общим замыслом и строем. Таковы были первые книги Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Ходасевича, Г.Иванова и других менее значимых поэтов, обратившие на них внимание критиков и читателей.
Цветаева этой традицией пренебрегла, а, может быть, она ее и не знала, поскольку литературными теориями никогда не интересовалась. Ее сборники были слеплены как попало и включали едва ли не все, написанное Цветаевой с 14 лет. Цветаева издала обе книжки за свой счет, – высокое самомнение и дурной вкус. Тираж ни одной из них не раскупился.
Цветаева продолжала много писать, публиковаться и выступать на поэтических вечерах: постепенно ей все же удалось занять место среди «одаренных московских поэтесс» второго ряда, имена которых сейчас помнят лишь специалисты. Покидая Россию в 1922 году, на пороге своего тридцатилетия, Цветаева все еще числилась в начинающих.
* * *Эмиграция подарила ей короткий взлет, если не к славе, то к узнаванию. Появление в печати двух ее поэм – «Горы» и «Конца», в середине двадцатых годов, было замечено в литературной среде по обе стороны границы. Ее первый поэтический вечер в Париже в 1926 году собрал множество народу и прошел с большим успехом.
Опрометчиво решив, что ей удалось взобраться на вершину поэтического Олимпа, Цветаева принялась ожесточенно браниться с критиками, задирать собратьев по перу и эпатировать эмигрантскую публику участием в «большевизанских» изданиях своего мужа. Помимо стихов Цветаевой там печатались портреты советских вождей: Сталина, Дзержинского и прочих.
Трудно сказать, сошло бы ей с рук подобное поведение, если бы она продолжила покорение новых поэтических высот. Но она не продолжила; выше поэм «Горы» и «Конца» она уже не поднималась.
Ее сборник «После России», изданный в Париже в 1928 г. всего через два года после ее триумфального вечера, уже был встречен равнодушно. Видя, что русский читатель от нее отворачивается, Цветаева попыталась совершить кульбит, не удававшийся прежде ни одному из русских поэтов: пробиться к читателю французскому. Она потратила много сил, переводя на французский свою поэму «Молодец», и еще столько же – пытаясь издать ее отдельной книгой. Никто за это не взялся.
Она активно посещала мероприятия, в которых участвовали французские писатели, желая очаровать их и добиться их поддержки, но французы Цветаевой не очаровывались: женственного в ней было мало и к живому диалогу, столь ценимому французами, она была неспособна. Ее жанр был напористый сумбурный монолог.
Вечера, на которых она выступала с чтением собственных произведений, проходили без аншлагов, причем продавались, в основном, самые дешевые билеты.
Повторное падение в болото второстепенности, из которого она лишь недавно выбралась, было вдвойне обидно. После одиннадцати лет пребывания за границей Цветаева с болью писала Рудневу, одному из редакторов «Современных записок» (9 декабря 1933 г.): «За эти годы я объелась и опилась горечью. Печатаюсь я с 1910 г. (моя первая книга имеется в Тургеневской библиотеке), а ныне – 1933 г., и меня все еще здесь считают либо начинающим, либо любителем, – каким-то гастролером».
Крайняя обидчивость побуждала Цветаеву видеть злой умысел там, где его не было. Она негодовала на то, что редакторы печатают мало ее стихов да еще самовольно сокращают ее прозу. Но разве повинны были редакторы в том, что в читательских предпочтениях произошел решительный разворот от поэзии к прозе? Что легкие и забавные рассказики Тэффи публика читала с гораздо большей охотой, чем авангардные сложносочиненные поэмы Цветаевой?
Между прочим, те же редакторы, готовые чуть ли не драться за каждый новый газетный фельетон Тэффи, наотрез отказывались публиковать ее стихи, как, впрочем, и романы Гиппиус, – к огромному огорчению обеих прославленных дам. Некогда прославленному Северянину и вовсе платили копейки в виде отступных, лишь бы он не присылал в редакцию своих новых стихов.
Цветаева упорно не желала считаться ни со вкусами публики, ни с проблемами редакторов, старавшихся удержать свои издания на плаву. Редактор, который подстраивается под вкусы публики, – плохой редактор, – заявляла она. Она не заявляла впрямую, что хороший редактор должен подстраиваться под вкусы Цветаевой, но требовала, чтобы ее печатали много и чтобы платили ей тоже много. Платили и печатали! Публика? А что публика? Как выражался купец в «Крейцеровой сонате» Толстого: «Небось, полюбит!».
* * *В заношенном платье, которое она надевала нарочно, желая подчеркнуть свою нищету, неуживчивая, раздраженная, колючая, косящая в сторону своими близорукими стылыми глазами, Цветаева была одиозной. Тяжкой гирей на ее ногах висел безработный Эфрон с его просоветской пропагандой и неуклюжими попытками завербовать всех знакомых в агенты НКВД.