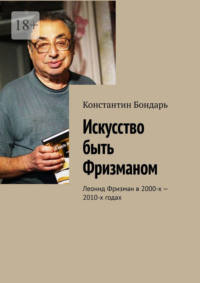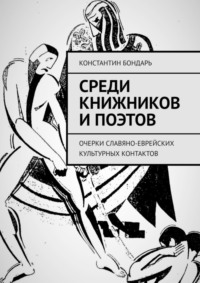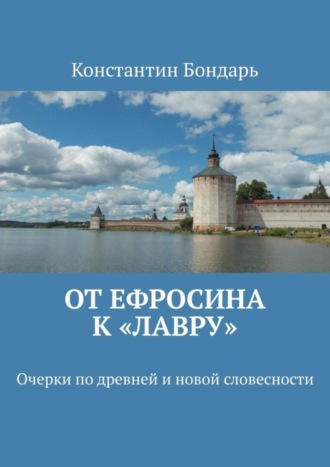
Полная версия
От Ефросина к «Лавру». Очерки по древней и новой словесности
Список древнерусских переводов с еврейского включает библейские книги (, по списку из Музейного собрания РГБ, девять книг по Виленскому списку); исторические сочинения (фактически, фрагменты только одной книги – средневековой редакции «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия, которая называется «Иосиппон» и была составлена евреями в Италии, – входящие в состав Повести временных лет, Еллинского и Римского летописца, Академического Хронографа); апокрифы (Исход Моисея, Соломонов цикл, Слово Зоровавеля), литургические памятники («Псалтырь Федора-еврея»); философские и естественно-научные трактаты (Логика Маймонида, Логика и Метафизика Аль-Газали, Тайная Тайных, Шестокрыл, Лунник (Космография). Спорными в этом списке являются книга в раннем, не виленском переводе (высказано мнение о ее переводе с греческого), и Соломонов цикл (предполагается не перевод, а фольклорное заимствование). В то же время несохранившийся еврейский текст апокрифа I в. н. э. «Откровение Авраама» отразился в единственном дошедшем переводе памятника – древнерусском. Есфирь Песнь Песней Есфирь 14
Наблюдения показывают наличие в памятниках следующих единичных, окказиональных форм:
Географическое понятие въ воньрамъ, в понорам (конъектура – по горам) (Исход Моисея, Откровение Авраама) – не что иное, как еврейское название Месопотамии ; земля почторска – Верхний Египет (евр. ) (Откровение Авраама). Иногда гебраизм тавтологичен: сѣчива (евр. «нож», «скальпель») (Откровение Авраама), ноготь птичь малъ во имя ; царица южьска иноплеменница именемъ (Соломонов цикл); (вместо ) , рекше песни песнем иже к Соломону (Песнь Песней по Музейному списку). padan aram patros измала izmel’ шамиръ малкатъшка ширъ гашим гаширим аширли шломо
Лексема шамиръ – один из самых известных древнерусских гебраизмов. А. Н. Веселовский объяснял ее как глоссу под влиянием «жидовствующих», но она уже присутствует в старейшем списке повестей о Соломоне начала XV в., а понять смысл конструкции помогает еврейский контекст: ноготь птичь – переводческий плеоназм: евр. «ноготь» – того же корня, что и «птица». Древнерусский переводчик сохранил экзотизм шамиръ, так и оставшийся hapax legomenon, без перевода, снабдив его русским эквивалентом, который тоже восходит к еврейскому архетипу. Имя «царицы южьской» (Савской) – малкатъшка – представляет собой искаженное еврейское , «царица Савы». ziporen zipor малькат шева
В «Логике» Маймонида А. И. Соболевский обнаружил слово тимсах (др.-евр. «крокодил»). В одном из сборников XIII в. встречается имя Машиаак (евр. «помазанник Божий»); в «Житии Феодосия Печерского» – слово земарная (евр. «петь», «играть на музыкальном инструменте»). В «Псалтыри Федора-еврея» оставлены без перевода названия некоторых ангельских чинов. тимсах Машиах замар 15 16 17
Говоря о терминологии, следует указать, что А. И. Соболевский находит в «Логике» обозначения субъекта и предиката и («по-еврѣскіи носе, а по-словенски держитель, по-еврѣскіи насу, а по-словенски одержимый»), в «Шестокрыле» и «Тайной Тайных» – еврейские названия знаков Зодиака. носе насу 18 19
Гебраизмами следует считать и факты передачи имен собственных в их еврейском фонетическом облике: , и даже грамматических категориях: (Плач Иеремии по Виленскому списку, 1:8) – на древнееврейском города и страны женского рода. Следует отметить, что в большинстве случаев известные имена собственные употребляются в их греческом облике – Иерусалим, Соломон, тогда как менее распространенные сохраняют еврейское написание – (при ц.-сл. ), (при ц.-сл. ) (Пленение Иерусалиму третье, Титово, из Академического Хронографа, восходит к «Иосиппону»), (<Дарий), (<Киръ) (Книга Даниила по Виленскому списку, последнее см. также в Слове Зоровавеля); (<Артаксеркс), (евр. Hud) – Индия, (евр. Kuš) – Эфиопия, (евр. šušan) – Сузы (ранний перевод книги Есфирь). В Слове Зоровавеля император Тит назван (в евр. источниках Aram, «Халдея, Вавилония» и Romi, «Рим» часто путаются). Ерушалаим грѣхъ съгрѣшила ерушалаимъ Шилоахъ Силоамъ Гошѣнъ Гесемъ Дарь вешь Корешь Ахасъверосъ Одъ/Удъ Хус/Кушь Сусан-град цесарь халдѣиски
Хронологическая запись в Сийском Евангелии 1338 г., использует еврейский календарный счет («месяца марта жидовьска »), то же явление отмечено и в Есфири: месяць десятыи глаголющийся по-жидовскому, а по-греческому декабрь (Есф 2:16); месяц , глаголющийся апрель (Есф 3:7); , рекомыи июнь (Есф 8:9). нисана тевефь нисанъ сиван 20
По А. А. Архипову, большинство тайнописных терминов заимствованы из еврейского языка, а именно: , – искаженное евр. «точки, знаки для вокализации». В еврейской традиции термин обозначал прием тайночтения, при котором в толкуемом тексте первой букве алфавита соответствовала последняя, второй – предпоследняя и т. д. Этим же принципом руководствуется «простая литорея» древнерусской тайнописи; – искаженное евр. «намерение, настрой», первоначально – внутренний смысл молитвы, позднее – игра букв и слов; – слово заимствовано из евангельского рассказа Мк 7:34 об исцелении глухого и косноязычного, где оно само оставлено без перевода и глоссировано как «отверзись». Подобно тому, как это слово было молитвой о даровании слуха и речи, так и невнятица тайнописи проясняется ее ключом. По данным Ричарда Джемса, автора «Словаря» начала XVII в., русская калька этого слова обозначала у русских людей тайные языки; связь с лексемами «раздабары», «раздабаривать», построенными по модели «раз-говоры», «раз-говаривать», где в качестве второго элемента выступает еврейский глагол «говорить». Термин нередко относился к тайной речи евреев-торговцев. Функция тайнописи состояла в повышении сакрального достоинства текста, поэтому чаще всего она встречалась на границах текста – во вкладных записях, молитвах писцов, титулатуре. Использование еврейского языка предполагает повышение сакральности, таинственности, значения текста (тайнопись в заговорах, профессиональных языках, языке русского масонства). фіоть хвиоть otiyyot икубана kawwana еффафа отверница тарабарская грамота, тары-бары – dabar 21
Наконец, отметим чрезвычайно интересное явление: глоссы на полях восточнославянских списков Пятикнижия XIV—XV вв., которые толкуют церковнославянский текст либо транслитерацией соответствующих еврейских конструкций (азъ есмь сыи – ), либо пояснением реалий (от чермнаго моря – (евр. «Красное море»), либо отсылкой к раввинистической традиции (къ царю едему – (отождествление Эдома и Рима свойственно средневековой талмудической письменности). егее ашеръ егее от суфескаго ям суф римскому 22
Зеркально противоположное явление – славянские глоссы у еврейских экзегетов отмечал еще в XIX в. А. Я. Гаркави, а в недавней науке – Р. О. Якобсон, который указывал на «повышенный престиж чешского (в еврейской традиции – ) языка и ареала в среднеевропейском укладе иудаизма эпохи крестовых походов». ханаанского 23
Итак, несмотря на то, что большинство отмеченных слов и форм не вошли в основной фонд русского языка, встречаются крайне редко или вообще однократно, порою трудны для объяснения, они служат маркерами, имеют значение диагностических признаков и встречаются в диагностических контекстах.
Арсений Кадлубовский, подвижник агиографии
К концу XIX – началу ХХ вв. губернский Харьков накопил мощный научный потенциал, который определялся, в числе прочего, именами ведущих специалистов во всех областях исследований. Одной из таких заметных фигур среди харьковских филологов и историков был Арсений Петрович Кадлубовский – историк русской литературы, университетский преподаватель, один из первых сотрудников Харьковской общественной библиотеки.
К изучению биографии Кадлубовского меня привлек Игорь Яковлевич Лосиевский – заведующий отделом редких изданий и рукописей Харьковской научной библиотеки имени В. Г. Короленко, под началом которого мне посчастливилось работать несколько лет до репатриации. Это была серьезная источниковедческая школа.
Арсений Кадлубовский родился в Москве 2 (14) марта 1867 г., учился в 3-й Санкт-Петербургской и Нежинской гимназиях. Последнюю (принадлежала к историко-филологическому институту князя Безбородко) юноша закончил с золотой медалью в 1884 г. и поступил в этот славный институт на словесное отделение. Курс обучения студент Кадлубовский закончил в 1888 г.; с тех пор началась и его педагогическая деятельность в Харьковской женской гимназии Д. Д. Оболенской (учитель русского языка) и прогимназии (учитель латинского языка). 24
Вскоре он вернулся в alma mater: в 1890—1899 гг. занимал должность наставника студентов Института князя Безбородко. Его деятельность в эти годы была разнообразной: выдержав магистерский экзамен на историко-филологическом факультете Харьковского университета, Арсений Петрович стал преподавателем (читал лекции по развитию теории поэзии и поэтических родов), был секретарем историко-филологического общества.
С сентября 1899 г. служебная и научная деятельность Кадлубовского целиком связана с Харьковом. Он начал преподавать в 3-й Харьковской гимназии (кстати, среди его учеников был будущий академик А. И. Белецкий) и почти одновременно – в университете на кафедре русского языка и словесности, где коллегами Кадлубовского были известные специалисты – профессора Н. Ф. Сумцов и М. Г. Халанский. 25
А. П. Кадлубовский
Педагогическая нагрузка приват-доцента Кадлубовского состояла из ряда специальных курсов: истории русской драматической литературы, старинной повести, апокрифов и легенд в русской литературе, литературных направлений Московской Руси. Кроме того, он вел практические занятия по чтению и разбору фольклорных памятников (былин, духовных стихов, лирико-эпических песен), старинных повестей. Молодой педагог был одним из участников внедрения женского образования: читал публичные курсы для женщин по изучению русской народной словесности. 26 27
В 1902 г. Арсений Петрович защитил в Варшаве магистерскую диссертацию «Очерки по истории древнерусской литературы житий святых», которая вышла в том же году отдельным изданием и поставила имя ученого в ряд с именем В. О. Ключевского, других исследователей агиографии, доставив ему признание в филологической науке тогдашней России. Как считают современные исследователи, эта книга впервые аргументированно опровергала концепцию Ключевского, который довольно низко оценивал источниковедческий потенциал житийной литературы. В предисловии к «Очеркам…» автор объясняет свое обращение к житийному жанру и отмечает четыре аспекта исследований в трудах предшественников: литературная форма, легендарные мотивы, морально-религиозное мировоззрение и исторические источники. Отдавая должное тем авторам, которые пытались исследовать агиографические произведения в названных аспектах (Ф. Буслаев, С. Шевырев), Кадлубовский особенно подробно останавливается на трудах Ключевского, отмечая их большое значение в разработке проблем агиографии и одновременно негативное влияние на научную традицию: великий историк оставил впечатление исчерпанности предмета и отказал житиям как историческому источнику в ценности. Работу Ключевского пытался продолжить И. К. Яхонтов в своей книге «Жития святых Поморского края как исторический источник» (1881), но он только усилил негативный взгляд на агиографию в этом аспекте. Кроме того, отмечает Кадлубовский, исследования осложнялись тем, что рукописные тексты многих житий не были опубликованы, а затем стали труднодоступными, и новые поколения ученых не принимались за поиски рукописных материалов, не считая их перспективными. 28
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Лурье Я. С. Элементы Возрождения на Руси в конце XV—начале XVI вв. // Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М.: Наука, 1967. С. 183—211; Лурье Я. С. Русские современники Возрождения. Л.: Наука, 1988. 159 с.
2
Лурье Я. С. Литературная и культурно-просветительская деятельность Ефросина в конце XV в. // ТОДРЛ. 1961. Т. 17. С. 130—168; Каган-Тарковская М. Д. Энциклопедические сборники XV в. и круг интересов книгописца Ефросина // Русская и грузинская средневековые литературы. Л.: Наука, 1979. С. 192—199.
3
Бобров А. Г. Ефросин Белозерский в поисках рая. СПб.: Алетейя, 2023. 270 с.
4
Lur’e J. S. Une légende inconnue de Salomon et Kitovras dans un manuscrit du 15 siècle // Revue des études slaves. 1964. Т. 43. P. 7—11.
5
Каган М. Д. Чудо митрополита Киприана (Еще один фольклорный мотив в сборнике XV в. книгописца Ефросина) // ТОДРЛ. 1981. Т. 36. С. 234—238.
6
Каган-Тарковская М. Д. Энциклопедические сборники XV в. и круг интересов книгописца Ефросина… С. 192.
7
Повесть о Дракуле / Иссл. и подг. текстов Я. С. Лурье. М., Л.: Наука, 1964. 212 с.
8
Алексеев А. И. Сочинения Иосифа Волоцкого в контексте полемики 1480 – 1510-х гг. СПб.: РНБ, 2010.
9
Лихачёв Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984.
10
Сказание о Дракуле воеводе… С. 434.
11
Макиавелли Н. Государь // Макиавелли Н. Избранные произведения. М.: Художественная литература, 1982.
12
Бондарь К. В. Гебраизмы как признак переводов с еврейского на Руси (по данным Соломонова цикла) // Материалы 9 ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 2. М.: Сэфер, 2002. С. 301—304.
13
Архипов А. А. Из истории гебраизмов в русском книжном языке XV – XVI вв.: автореф. дисс. …канд. филол. наук. М.: МГУ, 1982. 18 с.
14
Алексеев А. А. Переводы с еврейских оригиналов у восточных славян в эпоху средних веков // Славяне и их соседи. Еврейское население Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы: средние века и начало Нового времени. М., 1993. С. 10—11.
15
Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков. М., 1903. С. 407—408.
16
Топоров В. Н. Святость и святые в Древней Руси. Т. 1. М., 1995. С. 348.
17
Архипов А. А. Из истории гебраизмов в русском книжном языке XV—XVI вв… С. 7.
18
Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков… С. 403.
19
Там же. С. 418.
20
Мещерский Н. А. К вопросу об изучении переводной письменности киевского периода // Учен. зап. Карело-Финского пед. ин-та. Т. II, вып. 1. 1956. С. 208.
21
Архипов А. А. Из истории гебраизмов в русском книжном языке XV—XVI вв… С. 13—15.
22
Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 182—184. О глоссах см. также: Грищенко А. И. Правленое славяно-русское Пятикнижие XV века: предварительные итоги лингвотекстологического изучения. М.: Древлехранилище, 2018.
23
Якобсон Р. О. Из разысканий над старочешскими глоссами в средневековых еврейских памятниках // . Vol. VII. 1985. P. 46. Slavica Hierosolymitana
24
Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805—1905) / Под ред. М. Г. Халанского и Д. И. Багалея. Факс. изд. Харьков: Сага, 2007. С. 116—118 (2-я пагинация).
25
Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. Москва, 1964. С. 5—24.
26
Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования… С. 116—118 (2-я пагинация).
27
Белецкий А. И. Указ. соч.
28
Забаев И. В. Православие и хозяйство: Обзор русскоязычных исследований, диссертационных работ, конференций, полемики по основным социально-экономическим доктринам РПЦ за период XIX – начала XXI вв. // Экономическая социология. 2005. Т. 6. №5.