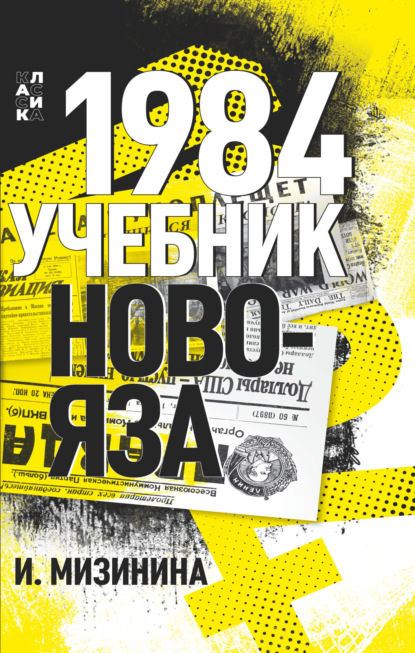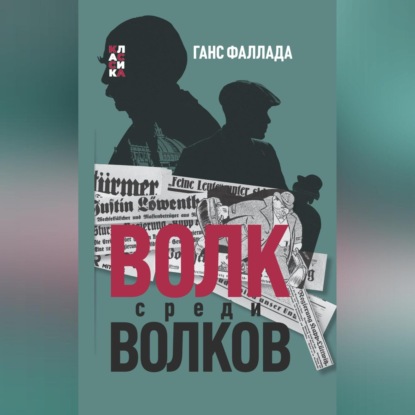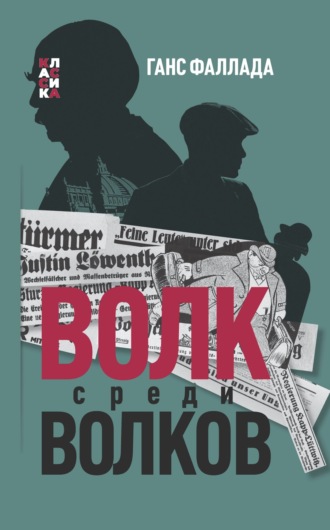
Полная версия
Волк среди волков
– Ты что ж, не знаешь? – спрашивает староста и осторожно посматривает на лейтенанта. Но тот спокойно продолжает есть и ни о чем не думает, кроме как о своей глазунье и о кубиках хлеба, которыми он обтирает тарелку. – В закладной все как есть прописано.
– Но как же так можно, староста, – чуть не умоляет лесничий, – неужели мы с тобою поссоримся, два старика?
– А с чего нам ссориться, Книбуш? – удивился староста. – Ты получишь что значится в закладной, а я, к слову сказать, не так стар, как ты.
– Десять тысяч марок, – говорит дрожащим голосом лесничий, – когда я дал их тебе под твою усадьбу, были хорошие деньги старого мирного времени. Я двадцать с лишним лет во всем себя урезывал, пока сколотил их. А прошлый раз, как вышел срок процентам, ты мне дал никчемную бумажку – она там лежит у меня дома в комоде. Я на нее даже марки почтовой, даже гвоздика не мог купить…
Книбуш не сдержался, и на этот раз не только дряхлый возраст, но и подлинное горе заставляет его прослезиться. Так он глядит на старосту Гаазе, который медленно потирает руки, зажатые между колен, но только Книбуш собрался ответить, как повелительный голос с дивана окликнул:
– Лесничий!
Лесничий оборачивается, сразу вырванный из своего горя и сетований.
– Слушаюсь, господин лейтенант!
– Дай-ка мне огня, лесничий!
Господин лейтенант кончил есть. Он вытер последние следы жира с тарелки, выпил до гущи кофе – теперь он лежит, удобно растянувшись, положив грязные сапоги на старостин диван, закрыв глаза, но с сигаретой во рту, и требует огня.
Лесничий подносит ему спичку.
Сделав первую затяжку, лейтенант поднимает веки и смотрит прямо в глаза лесничего, близкие, полные слез.
– Но! Это еще что? – говорит лейтенант. – Вы ревете, Книбуш?
– Это от дыма, господин лейтенант, – смутился Книбуш.
– То-то же, – сказал лейтенант, опять закрыл глаза и повернулся на бок.
– Не знаю, собственно, почему я вечно должен слушать твое нытье, Книбуш, – сказал староста, когда лесничий снова подошел к нему. – По закладной тебе следует получать двести марок. А я в прошлый раз дал тебе билет уже в тысячу марок, и так как у тебя не оказалось сдачи, я его тебе оставил целиком…
– Я на него даже и гвоздика не мог купить! – повторяет с ожесточением лесничий.
– И на этот раз у нас с тобой все будет по-хорошему. Я уже отложил для тебя десятитысячную бумажку, и все будет у нас опять по-хорошему: я не потребую сдачи, хотя десять тысяч это все, что я должен по закладной…
– Как же так, староста! – кричит лесничий. – Это же чистое издевательство! Ты превосходно знаешь, что десять тысяч сейчас гораздо меньше, чем тысяча полгода назад! А я тебе дал хорошими деньгами…
Горе чуть не разрывает ему сердце…
– А мне-то что! – кричит теперь со злобой и староста Гаазе. – Я, что ли, сделал твои хорошие деньги плохими? Обратись к уважаемым берлинским господам, а моей вины тут нет! Что написано, то написано…
– Но ведь надо же по справедливости, староста! – молит лесничий. Нельзя же так, я двадцать лет копил, во всем себе отказывал, а ты мне суешь бумажку на подтирку!
– Вот как? – говорит ядовито староста. – От тебя ли я это слышу, Книбуш? А помнишь, как было в тот год, в засуху, когда я никак не мог наскрести денег?.. Кто тогда сказал: «Что написано, то написано»? А потом еще, когда откормленная свинья стоила на рынке восемнадцать марок за центнер, и я сказал: «Деньги стали дороги, ты должен немного скинуть, Книбуш!» – кто мне тогда ответил: «Деньги есть деньги, и если ты не уплатишь, староста, я забираю двор». Кто это сказал? Ты, Книбуш, или кто еще?
– Но то же было совсем другое, староста, – говорит, присмирев, лесничий. – Там разница была невелика, а теперь получается так, что ты мне просто ничего не даешь. Я же не требую, чтобы ты возместил мне полную стоимость, но если бы ты дал мне вместо двухсот марок двадцать центнеров ржи…
– Двадцать центнеров ржи! – Гаазе громко расхохотался. – Ты, Книбуш, сдается мне, просто спятил! Двадцать центнеров ржи, да это же свыше двадцати миллионов марок…
– И все-таки это куда меньше, староста, чем то, что ты мне должен, – упорствует Книбуш. – В мирное время твой долг составил бы по крайней мере тридцать центнеров.
– Да, в мирное время! – вскипел староста. Он видит, что лесничему зубы не заговоришь, что он и впрямь покушается на его кошелек. – Но теперь у нас вовсе не мирное время, а ин-фля-ци-я, тут каждый сам за себя. И еще я скажу тебе, Книбуш, что мне надоела твоя трепотня. Ты по всей деревне судачишь о наших с тобой делах, а недавно ты сказал пекарю, как же это, мол, так: староста наш ест гусятину, а не может честно уплатить проценты. (Не спорь, Книбуш, ты это сказал, от меня ничто не укроется.) Так вот, завтра я поеду в Мейенбург и пришлю тебе с адвокатом проценты, ровно двести марок, как с меня причитается, да заодно предупреждение о выкупе закладной, и к Новому году ты получишь полностью все деньги, ровно десять тысяч марок, а сколько ты тогда на них сможешь купить, я и не спрошу. Да, именно так я и сделаю, Книбуш, потому что мне осточертело вечное твое нытье о твоих сбережениях. Возьму и сделаю…
– Не сделаете, староста Гаазе, – раздался резкий голос. – Номер не пройдет.
Лейтенант опять сидит на диване, прямой, нисколько не сонный, с еще дымящейся сигаретой в углу рта.
– Тридцатого числа вы дадите лесничему его двадцать центнеров ржи, а сейчас мы составим бумагу, что вы и дальше, пока у нас в обращении хлам вместо денег, обязуетесь выплачивать то же самое…
– Нет, господин лейтенант, я такого подписывать не стану, – сказал староста решительно. – Таких приказов вы мне давать не можете. Что другое – пожалуйста, но не это. Ежели я пожалуюсь господину майору, то…
– …то он даст вам коленкой в зад и выставит вас за дверь. Или поставит как изменника к стенке, что тоже не исключено, староста Гаазе… Эх, божий человек! – оживился лейтенант, вскочил, подошел к старосте и ухватился за пуговицу на его сюртуке. – Вы знаете, какая поставлена цель, и вы, заслуженный человек, спешите попользоваться напоследок за счет свинства берлинской шатии! Постыдились бы, староста!
Он отвернулся, подошел к столу, взял новую сигарету. Скомандовал:
– Огня, лесничий!
Лесничий с бесконечным облегчением, рабски благодарный, кинулся вперед. Подавая лейтенанту зажженную спичку, он нашептывает:
– Нужно еще будет написать в бумаге, что он не смеет отказываться от закладной. Не то он мне теперь заплатит хламом вместо денег… а ведь это все мои сбережения.
Ему стало жаль самого себя; от радости, что явился нежданный спаситель, он и вовсе раскис: на глазах у лесничего Книбуша опять проступили слезы.
Лейтенант посмотрел на него с отвращением.
– Книбуш, ты старая баба, – отрезал он. – Перестань, или я больше не скажу ни слова. Думаешь, я это ради тебя? Что ты, что другие подлые скряги, вы мне глубоко безразличны! Я ради дела, его не должна коснуться грязь.
Лесничий, совсем подавленный, отходит в угол к окну – разве не ясно как день, что он, Книбуш, прав? За что же на него накричали?
Лейтенант обернулся к старосте.
– Ну как, Гаазе? – спросил он, пуская дым.
– Господин лейтенант, – взмолился тот. – С чего же я должен оказываться в худшем положении, чем другие? В нашей округе все сейчас до срока выкупают закладные. А Книбуш, право, не такой человек, чтобы стоило с ним церемониться.
– Речь идет не о Книбуше, – возразил лейтенант, – речь идет о вас, Гаазе. Нельзя наживаться на жульнических махинациях берлинской шатии и в то же время хотеть ее свалить за это самое жульничество. Это ясно как день, это каждый ребенок поймет, это понимаете и вы, Гаазе. И ваше сердце, – он слегка похлопал его по жилету, и староста, пожимаясь, отступил на шаг, – ваше сердце говорит вам, что вы неправы.
Было видно, что староста Гаазе борется с собой. В долгой многотрудной жизни он научился крепко цепляться за свое; отдавать свое он не учился. Наконец, он медленно заговорил:
– Я дам подписку, что не стану досрочно выкупать закладную и что каждые полгода обязуюсь выплачивать ему стоимость десяти центнеров ржи… Больше двор не приносит, господин лейтенант, времена тугие…
– Тьфу, староста! – сказал тихо лейтенант и очень серьезно посмотрел на старика. – Большим свинством вы не хотите отягчить свою совесть, но маленькое она как-нибудь переварит, да? Посмотрите на меня! Вообще-то говоря, мне особенно похвалиться нечем, но на этот счет… У меня ничего нет, староста, вот уже пять лет у меня ничего нет, кроме того, что на мне. Бывает, что мне заплатят жалованье, бывает, что и нет. Для меня неважно. Или человек верит в дело, и тогда он все за него отдаст, или он в него не верит… Ну, а если так, староста, то в этом случае нам с вами не о чем разговаривать.
Староста Гаазе долго молчал. Потом начал с досадой:
– Вы человек молодой, а я старик. У меня есть двор, господин лейтенант, и я должен сберечь свой двор. Мы, Гаазе, живем здесь с незапамятных времен. Как я погляжу в глаза своему отцу и деду, если выпущу двор из рук!
– Но если вы удержите его обманом… это ничего, староста?
– Никакого обмана тут нет! – разгорячился староста Гаазе. – Все так делают. А кроме того, господин лейтенант, – сказал он, и в морщинках вокруг его глаз заиграл смешок, – все мы люди, не ангелы. Моему отцу тоже случалось иной раз продать лошадь за ломовую, а она вовсе и не ломовая. Нас обманывают, и мы при случае обманываем… А еще я думаю, бог может иногда простить, не зря же это в Евангелии написано.
Лейтенант потянулся за новой сигаретой. Что думал староста о боге, его не интересовало. Ему важно было, чтобы здесь, на этом свете, стало когда-нибудь лучше. «Огня, лесничий!» – приказал он, и лесничий, игравший бахромой гардины, подскочил к нему.
– Назад, в укрытие! – приказал лейтенант, и Книбуш отскочил назад за гардину.
– Если вы не сделаете по-моему, – решительно объявил лейтенант, ибо он никакому сельскому старосте не уступал в упрямстве, – если вы не сделаете так, как подсказывает каждому порядочному человеку долг, то вы мне в нашем деле не нужны, староста!
– А я думал, что больше вы в нас нуждаетесь, – сказал невозмутимо староста.
– Если же вы не послужили нашему делу, староста, – продолжал неуклонно лейтенант, – а через месяц или два мы станем здесь господами, – как вы полагаете, очень это будет выгодно для вас? Что?
– Господи, – беспечно заметил староста Гаазе, – если вы станете наказывать каждого, кто вам не послужил, господин лейтенант, стон и плач пойдет по всем деревням. И потом, – поддразнивает он, – так уж вас прямо и поставили министром сельского хозяйства, господин лейтенант!
– Хорошо! – оборвал лейтенант и взял свою фуражку с дивана. – Значит, вы не согласны, Гаазе?
– Я сказал, на что я согласен, – упрямо повторил староста, – не выкупать досрочно закладной и выплачивать стоимость десяти центнеров ржи.
– Между нами все кончено, староста, – сказал лейтенант. – Пошли, лесничий, я вам сейчас объявлю, где сегодня будет собрание. Во всяком случае не здесь.
Староста Гаазе охотно сказал бы кое-что еще, но он только крепко сжал тонкие губы. Лейтенант не коммерческий человек, с ним не поторгуешься, его требование гласит: все или ничего. Так как староста всего отдавать не хочет, он лучше промолчит.
Лейтенант остановился в дверях дома старосты. Он смотрел во двор. За ним стояли безмолвно лесничий Книбуш и его собака. Похоже было, что лейтенант не решается выйти под дождь, хлеставший теперь слабее, однако все еще довольно сильно. Но он вовсе не думал о дожде. Уйдя в свои мысли, он смотрел в раскрытую дверь сарая, под навес которого старостины сыновья спешно разгружали последний спасенный от грозы воз ржи.
– Господин лейтенант, – начал осторожно лесничий Книбуш. – Можно, пожалуй, назначить собрание у Бенцина, здешнего крестьянина…
– У Бенцина, да, у Бенцина… – повторил задумчиво лейтенант, продолжая наблюдать, как разгружают воз. Издали доносилось шуршание сухой соломы. Лейтенанту не пришлось побывать на фронте, для этого он был слишком молод, но и в Прибалтике, и в Верхней Силезии можно было научиться правилу, что в конечном счете побеждает более упорный. Лейтенант сказал старосте, что между ними все кончено, но если Гаазе и склонялся этому поверить, то лейтенант еще не покончил со старостой. Отнюдь нет.
– Бенцин… – пробормотал он еще раз, и затем отрывисто: – Ждите здесь, лесничий!
На этом лейтенант круто повернулся и опять вошел в дом.
Через пять минут пригласили зайти и лесничего. Староста сидит за столом и пишет расписку, по которой отказывается от досрочного выкупа закладной и обязуется выплачивать в погашение процентов стоимость сорока центнеров ржи в два срока, по полугодиям. Лицо старосты ничего не выдает, лицо лейтенанта тоже, Лесничий готов заплакать от счастья, но он не смеет, а то, чего доброго, дело расстроится. Он сдерживает свои чувства и от напряжения становится похож на красного лакированного щелкунчика.
– Все в порядке, – говорит лейтенант и «в качестве свидетеля» ставит вместо подписи какую-то загогулину. – А теперь ступайте, Книбуш, созовите людей. Сюда, понятно сюда. К Бенцину? При чем тут Бенцин?
И он смеется немного ехидно, между тем как староста молчит.
Разговор между лейтенантом и старостой был короткий.
– Скажите, староста, – как бы вскользь спросил лейтенант, – как у вас, между прочим, обстоит со страховкой от огня?
– Со страховкой от огня? – опешил староста.
– Ну да! – нетерпеливо бросил лейтенант, точно и ребенок должен был бы понять. – Как вы застраховались?
– В сорок тысяч, – сказал староста.
– На бумажные марки, да?
– Д-да-а-а… – Староста тянул это очень долго.
– Я думаю, это составит примерно сорок фунтов ржи, а?
– Д-да-а-а.
– Чертовски легкомысленно, правда? Сейчас, когда у вас сарай доверху набит сухой соломой и сеном, а?
– Но ведь другой страховки нынче нет! – крикнул с отчаянием староста.
– Есть, староста, есть, – сказал лейтенант. – Например, вы можете позвать сюда лесничего Книбуша и написать, что я вам сказал.
После чего лесничего Книбуша пригласили в дом.
7. Штудман падает с лестницыВ этот день с администратором гостиницы, обер-лейтенантом в отставке Штудманом, случилось поистине неприятное происшествие. Часа в три пополудни – время, когда никакие приезжие не прибывают с вокзалов – в холле появился довольно высокий, крепкого сложения господин, в безупречно сшитом английском костюме, с чемоданчиком свиной кожи в руке.
– Номер на одного. С ванной, без телефона, во втором этаже, потребовал господин.
Ему ответили, что в гостинице в каждом номере есть телефон. Господин, человек лет тридцати, изжелта-бледный, с резкими чертами, умел необыкновенно страшно перекосить желтое свое лицо. Именно это он сейчас и проделал и нагнал на швейцара такого страху, что тот от него попятился.
Штудман подошел ближе. Если желательно, телефон можно будет, разумеется, убрать из комнаты. Впрочем…
– Желательно! – внезапно закричал приезжий. И тут же, без перехода очень мирно попросил, чтобы и звонок в его номере был приведен в бездействие.
– Не нужно мне всей этой современной техники, – сказал он, наморщив лоб.
Штудман молча отвесил поклон. Он ждал, что дальше от него потребуют, чтоб выключили электрический свет, но либо гость не причислял электричество к современной технике, либо он упустил из виду этот пункт. Разговаривая вполголоса сам с собой, он стал подниматься по лестнице, за ним лифтер с чемоданчиком свиной кожи, впереди – коридорный с карточкой для приезжающих.
Штудман достаточно долго работал администратором в столичном караван-сарае и уже давно не удивлялся прихотям постояльцев. Начиная с одинокой путешественницы из Южной Америки, которая дико раскричалась, требуя комнатного клозета для своей обезьянки, и кончая холеным пожилым господином, который в два часа ночи выскочил в одной пижаме и шепотом попросил, чтобы ему немедленно – но только, пожалуйста, немедленно! – доставили в номер даму («Нечего прикидываться! Точно мы все не мужчины!»), – ничто уже не могло возмутить штудмановское спокойствие.
Тем не менее было что-то в новом постояльце, что призывало к осмотрительности. Обычную клиентуру гостиниц составляли обыкновенные люди, а обыкновенный человек лучше прочтет о скандале в газете, чем будет сам в нем участвовать. Администратор насторожился. И не так своими дурацкими желаниями встревожил его вновь прибывший, как этим гримасничанием, внезапным криком, неспокойным – то дерзким, то затравленным – взглядом.
Однако донесения, доставленные вскоре Штудману, были самые успокоительные. Лифтер получил на чай целый американский доллар, бумажник нового гостя весьма приятно набит. Коридорный вернулся с заполненной карточкой для приезжающих. Господин отметился как «фон Берген», имперский барон.
Коридорный Зюскинд, как всегда дотошный, попросил незнакомца предъявить еще и паспорт, на что он был уполномочен особым распоряжением полицейпрезидента. Паспорт, выданный Вурценской полицией, был несомненно в порядке. Привлеченный для проверки Готский альманах показал, что действительно имеются имперские бароны фон Бергены, родовые земли их лежат в Саксонии.
– Все в порядке, Зюскинд, – сказал Штудман и захлопнул Готский альманах.
Зюскинд сомнительно покачал головой.
– Не знаю, – сказал он. – Странный господин.
– Чем же странный? Думаете, аферист? Лишь бы платил, остальное нам безразлично, Зюскинд.
– Аферист? Ни-ни! Мне думается, он свихнулся.
– Свихнулся? – повторил Штудман, недовольный тем, что у Зюскинда создалось то же впечатление, что и у него самого. – Вздор, Зюскинд! Может быть, немножко нервный. Или подвыпил.
– Нервный? Подвыпил? Ни-ни. Свихнулся…
– Но почему вы думаете, Зюскинд? Или он как-нибудь странно вел себя там наверху?..
– Ничуть! – с готовностью признал Зюскинд. – Что он кривляется и строит рожи, так это еще ничего не значит. Иные воображают, что это придает им больше весу в наших глазах.
– А что же?..
– Чувствуется что-то такое, господин директор. Вот как полгода назад, когда у нас трикотажник повесился, в сорок третьем номере, тогда у меня тоже было какое-то чувство…
– Бросьте, Зюскинд! Будет вам труса праздновать!.. Ну, мне пора. Держите меня в курсе и присматривайте все-таки за господином…
Выдался очень трудный для Штудмана день. Новый курс доллара потребовал не только перерасчета всех расценок, нет, приходилось наново калькулировать весь бюджет. На заседании в директорском кабинете Штудман сидел как на угольях. С нескончаемой обстоятельностью главный директор Фогель разъяснял, что нужно-де хорошенько взвесить, не следует ли, в предвидении дальнейшего повышения доллара, сделать некоторую накидку к сегодняшнему курсу во избежание полного краха.
– Мы должны сохранить реальные ценности, господа! Реальные ценности! И он разъяснил, что за текущий год наш запас, к примеру сказать, жидкого мыла, упал с семнадцати центнеров до нуль, запятая, пять.
Невзирая не неодобрительные взгляды своего патрона, Штудман снова и снова выбегал в вестибюль. После четырех наплыв приезжих очень усилился, служащих в приемной конторе рвали на части, и поток вновь прибывающих наталкивался на тех, кто внезапно надумал уехать.
Штудман только бегло кивнул, когда Зюскинд шепнул ему, что господин из тридцать седьмого изволил принять ванну, потом лег в кровать и спросил бутылку коньяку и бутылку шампанского.
«Значит, все-таки пьяница, – подумал Штудман, разрываясь в тысячах забот. – Когда начнет буянить, я к нему пришлю нашего врача, пусть даст ему снотворного».
И он заспешил дальше.
Штудман только что опять улизнул из директорского кабинета, где главный директор Фогель доказывал, что большой запас яиц несет гостиницам разорение.
– Однако при настоящих обстоятельствах необходимо хорошенько взвесить, не следует ли все-таки держать известный запас… ввиду того, что подвоз свежих яиц… а к сожалению, также и яйца из холодильников…
«Идиот!» – подумал, кинувшись к дверям, Штудман. И с удивлением: «Почему я, собственно, так раздражен? Мне же с давних пор знакома эта болтология… Или гроза на меня так действует?..» И тут коридорный Зюскинд остановил его.
– Ну теперь пошло, господин директор, – сказал он, и его лицо угрюмо вытянулось над черным фрачным галстуком.
– Что «пошло»? Говорите скорей, что вам нужно, Зюскинд. Мне некогда.
– Да у господина-то из тридцать седьмого, господин директор! – сказал с укоризной Зюскинд. – Он говорит, в шампанском слизняк!
– Слизняк? – Штудман невольно рассмеялся. – Вздор, Зюскинд, вас просто морочат! Как мог слизняк попасть в шампанское? Никогда ничего подобного не слышал.
– А вот же попал один, – настаивал удрученно Зюскинд. – Я видел своими глазами. Большой черный слизняк…
– Вы?.. – Штудман стал вдруг серьезен, он раздумывал. Было совершенно невозможно, чтобы у них в отеле плавали в шампанском слизняки! Здесь не подавалось никаких фальсифицированных вин, закупленных у спекулянтов.
– Верно, сам пустил его в бутылку, чтоб подшутить над нами, – решил он. – Принесите ему бесплатно другую бутылку. Вот вам – для заведующего винным погребом.
Он быстро, на лету, выписал чек.
– И смотрите хорошенько, Зюскинд. Чтоб он не выкинул еще раз ту же штуку!
Зюскинд уже совсем сокрушенно помотал головой.
– Вы бы, может, сами к нему зашли? Я боюсь…
– Вздор, Зюскинд. У меня нет времени на такие затеи. Если не можете справиться сами, возьмите с собой свидетелем заведующего винным погребом или кого хотите…
Штудман уже мчался дальше. Небезызвестный стальной магнат Брахведе кричал в холле, что он снял номер за десять миллионов в сутки, а в счете поставлено пятнадцать…
Штудман принялся втолковывать магнату то, что тому давно было известно, а именно, что доллар вздорожал; он уговаривал одних, улыбался другим, сердитым взглядом напомнил бою, чтобы тот не зевал по сторонам; проследил, как усаживают в лифт параличную даму, отбился по трем телефонным вызовам…
И тут вновь предстал перед ним озабоченный Зюскинд.
– Господин директор! Прошу вас, господин директор! – прошептал он подлинным, бьющим по нервам театральным шепотом старого стиля, каким на сцене разговаривают заговорщики.
– Что там опять стряслось, Зюскинд?
– Господин из тридцать седьмого, господин директор!
– Ну что там? Ну что! Опять слизняк в шампанском?
– Господин Тухман (заведующий винным погребом) откупоривает уже одиннадцатую бутылку – во всех слизняки!
– Во всех? – закричал, не сдержавшись, Штудман. Но почувствовал на себе взгляды гостей и сошел на полушепот: – С ума вы, что ли, сошли, Зюскинд?
Зюскинд печально мотнул головой.
– Он из себя выходит. Не допущу, говорит, чтобы мне совали в вино голых черных слизняков…
– Идем! – крикнул Штудман и помчался по лестнице на второй этаж; он и думать позабыл о достойной осанке, какую администратор и замдиректор столь фешенебельного заведения обязан сохранять при любой ситуации. Озабоченный Зюскинд поспешал за ним.
Оба вихрем пронеслись сквозь изумленную толпу приезжих… и тотчас же распространился слух, неизвестно откуда взявшийся, будто колоратурное сопрано, графиня Багенца, которая должна была сегодня вечером выступить в ряде камерных концертов, только что разрешилась от бремени.
Вот они у номера 37. Учитывая обстоятельства, Штудман позволил себе пренебречь отнимающими время формами учтивости. Он только стукнул в дверь и вошел, не дожидаясь ответного «Войдите». Коридорный Зюскинд, следовавший за ним по пятам, тщательно прикрыл двойную дверь, чтобы шум предстоящего столкновения не услышали в других номерах.
В просторной комнате горел электрический свет. Гардины на обоих окнах были плотно сдвинуты. Равным образом и дверь в примыкающую к комнате ванную была закрыта и, как вскоре выяснилось, даже заперта. Ключ был вынут.
Гость лежал на широкой ультрасовременной кровати хромированной стали. Желтизна его лица, поразившая Штудмана уже в холле, казалась еще более болезненной на белом фоне подушки. К тому же на нем была пурпурно-красная пижама из очень, как видно, дорогой парчи – желтая плотная вышивка этой пижамы казалась блеклой рядом с желтушным лицом. Одну руку, сильную руку с поразительно красивым перстнем, он положил сверху на стеганое одеяло голубого шелка. Другая лежала под одеялом.
Все это Штудман увидел с первого же взгляда; он увидел также придвинутый к кровати стол и оторопел перед несчетным множеством стоявших на нем бутылок коньяка и шампанского. Их было не одиннадцать, как сказал Зюскинд, а гораздо больше.
Одновременно Штудман с досадой установил, что Зюскинд с перепугу призвал в свидетели не одного только заведующего винным погребом; подле стола выстроились бой, горничная, лифтер и еще какое-то серое, женского пола существо, из тех, вероятно, что помогают при случае в уборке комнат, – небольшая группа очень испуганных и растерянных людей.