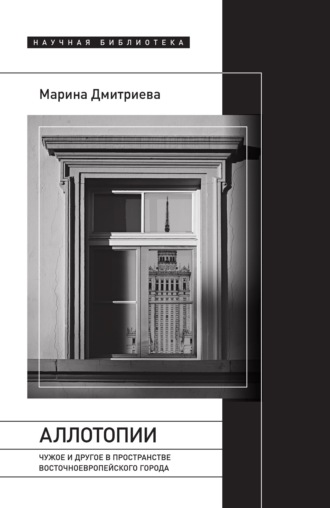
Полная версия
Аллотопии. Чужое и Другое в пространстве восточноевропейского города
Новых формальных решений в фотографии в 1920-е годы искали не только в Дессау, но точно так же в Берлине, в Москве или в Париже. В Баухаусе практиковался плодотворный обмен с русскими конструктивистами, среди которых были Лисицкий, Родченко или Дзига Вертов. Но в первую очередь – Мохой-Надь. Его книга «Живопись, фотография, фильм» была издана на русском языке под названием «Живопись или фотография» и читалась в контексте полемики о сущности и правомерности художественной фотографии[113]. В этой книге он провозглашал смену живописи другими видами искусства, как то: фотографией и фильмом, в чем он следовал русским конструктивистам. Ссылаясь на белые картины Малевича, он даже говорил о «последнем упрощении картины – проекционном экране». Вместе с тем Мохой-Надь подчеркивал роль «фактуры», перенятую фотографией из опыта кубизма, а также «проблематику симультанного видения фильма», испробованную уже футуризмом, то есть указывал на влияние новой живописи на фотографию[114].
Воробейчик пережил в Баухаусе не только живой дух экспериментирования. В его время школа находилась в фазе, ориентированной на производство, которая наступила с приходом нового директора Ханнеса Майера (1928–1930). Конфликты между «художниками» (Кандинский и Клее) и «функционалистами» имели место и раньше, а с приглашением Мохой-Надя они усилились. Постоянные высказывания Воробейчика «Я художник», а также его повторные указания на Клее и Кандинского как на своих учителей (позже в воспоминаниях о Баухаусе он говорил: «Дух Клее, Кандинского, Мохой-Надя и других парил над школой и поддерживал жизнь во всем»[115]) следует понимать как признание и как попытку сводить воедино выразительность тех вещей, которые более не обязательно образуют единство. Определенное разочарование развитием событий, имевших место в Баухаусе, также было, вероятно, причиной его переселения в Париж, где вещи казались еще более живыми, прежде всего в том, что касалось связи фотографии и живописи, и где не было необходимости подчиняться идеологии Баухауса. Книга о Вильне, в которой нашла выражение эта связь, именно в парижской художественной среде обрела свой окончательный вид.
Теоретические размышления Вальтера Беньямина о фотографии также возникли в рамках парижского дискурса. Вопрос Беньямина, изменился ли общий характер искусства в результате изобретения фотографии[116], касается не только «художественного произведения в эру его воспроизводимости», он относится и к доступу к фотографии как таковой, которая именно в 1920-е годы превращалась из средства документации в художественное средство. Это развитие, в котором колебание между документальным и ложно художественным характером, охарактеризованное Зигфридом Кракауэром как «демоническая двусмысленность»[117] и становившееся все очевиднее, в конце 1920-х годов сделалось предметом интенсивного теоретического и практического осмысления[118].
В особенности в фотомонтаже возник новый образ реальности, который в то же время должен был очаровать наблюдателя истинностью деталей и сбить с толку произвольностью композиции[119]. Франц Ро обнаружил в 1925 году в фотомонтаже с его связью модернистской абстракции живописи и крайнего реализма фотографического фрагмента знак нового тренда – «постэкспрессионизма»[120]. Благодаря этому калейдоскопическому способу множественного взгляда фотомонтажу удалось удовлетворять совершенно различным претензиям – от элитарного понимания искусства смешанных дадаистских композиций Ханны Хёх или Поля Ситроена до рекламных изображений новой массовой культуры и советских политических пропагандистских монтажей, создававшихся в 1930-е годы Эль Лисицким или Густавом Клуцисом[121].
Книга Воробейчика о Вильне – результат критического рассмотрения этих теоретических рефлексий и практического опыта. К экспериментам Баухауса восходят не только динамизация взгляда благодаря перемещенным углам зрения и диагоналям. Можно рассматривать и зрительное восприятие человека в гармонии с архитектурой как дальнейшее развитие любимой темы фотографий, которые делали любители в Баухаусе, – человек в своем архитектурном окружении. Там, правда, фотографов вдохновляла архитектура Гропиуса, здесь, напротив, – извилистые переулки и застроенные дворы старого еврейского города: сфотографированный под косым углом архитектурный вид называется «Еврейская архитектура». Но и исследование фактуры и света, охват предмета в нескольких измерениях, пришедший из кубизма, футуристическое рассмотрение проблем движения и одновременности – все это концепции и решения, исходящие из синкретизма фотографического и живописного опыта и непосредственно связанные с нынешними дискуссиями о фотографии как о коммуникативном средстве. Отсюда и новаторское значение этих фотографий.
Книга о Вильне была, однако, не блестящим индивидуальным деянием, а частью большого проекта (трилогии «Вильна» – «Париж» – «Ci-Contre»)[122].
Почти одновременно с этой книгой возник и другой фотоальбом, «Paris – 80 Photographies» («Париж – 80 фотографий»), который Воробейчик опубликовал под псевдонимом Мой Вер. Если «Вильна» показывает жизнь в ее вечном, неизменном образе, то «Париж» являет собой картину современной жизни. Фабричные трубы, лица, колеса – это футуристический образ европейской столицы. На сей раз это не коллажи, а фотомонтажи и отпечатки наложенных друг на друга негативов (в соответствии с так называемым методом сэндвича), создающие подвижный, не статичный образ. В отличие от других фотографов Парижской школы, например Андре Кертеса, Брассая или Флоранс Анри, которые искали в Париже остановившееся время[123], Мой Вер видел изменения и преображения. Наряду с этим (как и в книге о Вильне) город воспринимается вместе с людьми и посредством людей: на нескольких фотографиях город открывается сквозь прозрачные человеческие фигуры.
Как и книга о Вильне, «Париж» – фотографический альбом. Предисловие к нему написал Фернан Леже, учитель художника. В этом знаменательном тексте Леже обращается к фотографии как к коммуникативному средству, которое, на его взгляд, переживает переход от документации и чисто иллюстративной функции к «очень интересным пластическим открытиям». В качестве протагонистов этого движения он называет Мохой-Надя и Лисицкого, относя к их числу также художника Мой Вера.
Для Леже, вдохновленного фотомонтажами Мой Вера, фотография стоит ближе к формальным принципам живописи, нежели к формальным принципам фильма или литературы, хотя он и должен признать, что кино открыло фотографии много путей. Главным принципом фотографии и живописи является композиция. Как и живопись, фотография ищет la durée, продолжительности
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Baxandall M. The Period Eye. Painting and experience in fifteenth century Italy: a primer in the social history of pictorial style. Oxford, 1988.
2
Snyder T. Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin. New York, 2010.
3
Ассман А. Забвение истории – одержимость историей. М., 2019.
4
Leibniz Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO).
5
О преображении города см.: Bartetzky A. Die gerettete Stadt. Architektur und Stadtentwicklung in Leipzig seit 1989 – Erfolge, Risiken, Verluste. Leipzig: Lehmstedt, 2015.
6
Elkins J. Is Art History Global? New York, 2007 (The Art Seminar 3) // World Art Studies: exploring concepts and approaches / K. Zijlmans, W. van Damme (eds.). Amsterdam, 2008; Circulations in the Global History of Art / Th. DaCosta Kaufmann, C. Dossin, B. Joyeux-Prunel (eds.). Farnham, 2015 (Studies in Art Historiography 10); Universal – International – Global. Art Historiographies of Socialist Eastern Europe / Dmitrieva M., Hock B., Kempe A. (eds.). Wien; Köln; Weimar, 2022.
7
Białostocki J. A Comparative History of World Art, is it Possible? // Problemi di metodo, condizioni di esistenza di una storia dell’arte. Problems of Method / L. Vayer (ed.). Conditions of Art History, Atti del XXIV Congresso C. I. H. A., Bologna, 1979. Bologna, 1982. Р. 207–216.
8
См.: Дмитриева М. Италия в Сарматии: Пути Ренессанса в Восточной Европе. М., 2015. Глава «Искусство и география. Границы и возможности».
9
Białostocki J. The Art of the Renaissance in Eastern Europe. London, 1976.
10
Białostocki J. Some Values of Artistic Periphery // Lavin I. (ed.). World Art. Themes of Unity in Diversity. Acts of the XXVIth International Congress of the History of Art. Washington, D. C., 1986. London: University Park, 1989. Vol. 1. Р. 49–54.
11
Ţichindeleanu O. Decolonizing Eastern Europe: Beyond Internal Critique // GHIU, 2011. Р. 1–13.
12
Статью П. Пиотровского East European Art Peripheries Facing Post-Colonial Theory (2014) см. здесь: https://nonsite.org/east-european-art-peripheries-facing-post-colonial-theory.
13
Kaufmann Th. DaCosta. Toward a Geography of Art. Chicago, 2004.
14
См.: Дмитриева М. Мiж мiстом i степом. Мистецьки тексти про український модерн // Український художній авангард: маніфести, публіцистика, бесіди, спогади, листи. Ки́їв, 2021. С. 9–28.
15
Art Histories and Visual Studies in Europe / М. Rampley, Th. Lenain, H. Locher, A. Pinotti, Ch. Schoell-Glass, K. Zijlmans (eds.) // Transnational Discourses and National Frameworks. Leiden, 2012 (Brill’s Studies on Art, Art History, and Intellectual History. 212/4).
16
Впервые это эссе прозвучало на радио в 1966 году. Авторизованный печатный вариант вышел в 1984 году. См.: Foucault M. Hétérotopie // Architecture, Mouvement, Continuité. 1984. № 5. Р. 46–49.
17
Barthes R. Sémiologie et Urbanisme // L’Architecture d’Aujourd’hui. 1970. Dec. P. 153 (здесь и далее цитаты приводятся в переводе автора).
18
Ibid. P. 12.
19
Lynch K. The Image of the City. The MIT Press, 1960.
20
Особенно: Lynch K. Notes on City Satisfactions // T. Banerjee, M. Southworth (eds.). City Sense and City Design: Writings and Projects of Kevin Lynch. Cambridge, Mass., 1990. Р. 105.
21
Cities of the Mind. Images and Themes of the City in the Social Sciences / R. Hollister, L. Rodwin (eds.). New York, 1984.
22
Например: Imaging the City: Continuing Struggles and New Directions / L. J. Vale, S. B. Jr. Warner (eds.). Abingdon-on-Thames, 2019.
23
Лотман Ю. Семиосфера. СПб., 2001. С. 35.
24
См.: Wallach Y. A City in Fragments. Urban Text in Modern Jerusalem. Stanford, 2020.
25
Schlögel K. Promenade in Jalta und andere Städtebilder. München; Wien, 2001; Idem. Die Mitte liegt ostwärts: Europa im Übergang. München, 2002; Idem. Moskau lesen: die Stadt als Buch. München, 2005 (в рус. пер.: Постигая Москву. М.: РОССПЭН, 2010); Idem. Marjampole oder Europas Wiederkehr aus dem Geist der Städte. München, 2005; Idem. Der Duft der Imperien: Chanel № 5 und Rotes Moskau. München, 2020.
26
Обзор литературы на эту тему см. в настоящей книге в главе «Чужие памятники».
27
Эта местность Восточной Пруссии до Первой мировой войны относилась к Германии, ныне – к Польше.
28
Deutsch-polnische Erinnerungsorte / H. H. Hahn, R. Traba (hrsg.). Berlin, 2012–2015.
29
См. например: Etienne A., Forsdick Ch., Moudileno L. Postcolonial Realms of Memory Sites and Symbols in Modern France. Liverpool, 2020 (Contemporary French and Francophone Cultures, 68); Preda C. The Transnational «memorialization» of Monumental Socialist Public Works in Eastern Europe // International Journal of Cultural Studies 23. 2020. № 3. Р. 401–421. См. также семинар в университете Ноттингема (Centre for Research in Visual Studies, CRVS): «Re-writing history? Monuments, iconoclasm, and social justice movements in 2020» (https://www.nottingham.ac.uk/crvc/research-seminars/re-writing-history-monuments-iconoclasm-and-social-justice-movements-in-2020.aspx).
30
Assmann A. Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention. München, 2013.
31
Gabowitsch M. The Limits of Iconoclasm: Soviet War Memorials since the End of Socialism // International Public History. Vol. 1. 2018. № 2. Р. 1–6; Колева Д. Памятник советской армии в Софии: первичное и повторное использование // Неприкосновенный запас. 2015. № 3.
32
Первоначальный вариант этой главы был написан в 2013 году.
33
О проекте см.: Васильева Ж. Помпеи страны Советов: Новый проект Гриши Брускина – в «Ударнике» // Российская газета. 2013. № 107. 22 мая. http://www.rg.ru/2013/05/21/bruskin-poln.html.
34
Понятие «культура памяти» (Erinnerungskultur) особенно углубленно разрабатывается в немецкой научной традиции, тогда как в англо-американской литературе чаще используется понятие «политика памяти» (politics of memory).
35
Например, культура памяти в целом: Assmann A. Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. Bonn, 2007 (в рус. пер.: Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М., 2014); Lottes G. Erinnerungskulturen zwischen Psychologie und Kulturwissenschaft // Erinnerung, Gedächtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung / G. Oesterle (ed.). Göttingen, 2005. S. 163–184. Обзор поля исследования в отношении к Восточной Европе см.: Tröbst S. Postkommunistische Erinnerungskulturen im östlichen Europa. Bestandsaufnahme, Kategorisierung, Periodisierung. Wrocław, 2005 (Berichte des Willy Brandt Zentrum 7); Idem. Erinnerungskultur – Kulturgeschichte – Geschichtsregion. Ostmitteleuropa in Europa. Stuttgart, 2013.
36
Бывшая министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете в своей речи на открытии Лейпцигской книжной ярмарки в 2010 году призывала учесть позицию не только больших, но и малых народов «новой» Европы, которых она называла жертвами истории, чем вызвала возмущение представителей еврейского союза, поскольку, по их мнению, приравнивала сталинизм и фашизм.
37
Huyssen A. Present Pasts: Urban Palimspsests and the Politics of Memory. Stanford, 2003. P. 1–6.
38
Ассман A. Трансформации нового режима времени // Новое литературное обозрение. 2012. № 4 (116).
39
Koselleck R. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt a. M., 1995. S. 300–349.
40
Снимки воспроизведены в каталоге выставки, хранящемся в Немецком литературном архиве в Марбахе. На этой выставке были представлены способы архивирования знаний различными деятелями немецкой культуры, в том числе и Козеллеком. См: Zettelkästen. Maschinen der Phantasie / H. Gfrereis, E. Strittmatter (hrsg.). = Marbacherkatalog 66. Marbach, 2013, раздел: Koselleck, илл., без указания страниц.
41
Halbwachs М. La Mémoire collective. Paris, 1950; Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3.
42
Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // Representations. Vol. 26. 1989. Р. 7–24; Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3.
43
Nora P. Les Lieux de Mémoire. Vol. 1–7. Paris, 1984–1992.
44
Центральная и Восточная Европа: Deutsche Erinnerungsorte / E. François, H. Schulze (hrsg.). Bd. 1–3. München, 2001. См. также многотомное издание о польско-немецких памятных местах: Deutsch-polnische Erinnerungsorte / H. H. Hahn, R. A. Traba (hrsg.). Bd. 1–5. Paderborn, 2001–2012; Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven / M. Weber, B. Olschowsky (hrsg.). (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 42). München, 2011.
45
Soja E. W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London, 1989. О связи spatial turn в культурологических исследованиях и крушении социалистической системы см.: Schlögel K. Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. München, 2003.
46
Soviet Hieroglyphics: Visual Culture in Late Twentieth Century Russia / N. Condee (ed.). Bloomington, London, 1995.
47
The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design, and Use of Past Environment / D. E. Cosgrove, S. Daniels (eds.). Cambridge, 1988.
48
Czepczyński M. Cultural Landscape of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs. London, 2008; Idem. Representations and images of «recent history». The transition of post-socialist landscape icons // The Post-Socialist City. Continuity and Change in Urban Space and Imagery / M. Dmitrieva, A. Kliems (eds.). Berlin, 2010. P. 16–33. См. также: Cities after the Fall of Communism. Reshaping Cultural landscapes and European identity / J. Czaplicka, N. Gelazis, Blair A. Ruble (eds.). Washington; Baltimore, 2009; Architectures au-delà du Mur, 1989–2009: Berlin, Varsovie, Moscou / E. Bérard, C. Jaquand (eds.). Paris, 2009.
49
Von der Ablehnung zur Aneignung? Das architektonische Erbe des Sozialismus in Mittel- und Osteuropa / A. Bartetzky, Ch. Dietz, J. Haspel (hrsg.). Köln; Weimar; Wien, 2014.
50
http://www.archnadzor.ru/.
51
Brüggemann K., Kasekamp A. The Politics of History and the «War of Memories» in Estonia // Nationalities Papers. 2008. Vol. 36. P. 425–448.
52
Der Kommunismus im Museum. Formen der Auseinandersetzung in Deutschland und Ostmitteleuropa / V. Knigge, U. Mählert (eds.). Köln; Weimar; Wien, 2005; Past for the Eyes. East European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989 / O. Sarkisova, P. Apor (eds.). Budapest; New York, 2008; Post-Communist Nostalgia / M. Todorova, Z. Gille (eds.). New York; Oxford, 2010.
53
О нонконформизме Навакаса как художественной позиции см.: Lybite E. Art as a Witness. Sculptor Mindaugas Navakas // Lituanus. Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences. Vol. 57. № 2. Summer 2011. http://www.lituanus.org/2011/11_2_04Lubyte.html.
54
Hrytsak Y., Susak V. Constructing a National City. The Case of L’viv // Composing Urban History and the constitution of civic identities / J. J. Czaplicka, B. A. Ruble (eds.). Washington, 2003. P. 140–164.
55
Bartetzky A. A cumbersome heritage. Political monuments and buildings of the GDR in the reunited Germany // The Post-Socialist City / M. Dmitrieva, A. Kliems (eds.). Jovis Verlag, 2010. P. 52–65.
56
Анализ «чужого» контекста этого памятника в сравнении с памятником Марксу и Энгельсу работы немецких скульпторов см.: Ladd B. East Berlin Political Monuments in the Late German Democratic Republic: Finding a Place for Marx and Engel // Journal of Contemporary Hystory. 2002. Vol. 37. P. 91–104.
57
Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią a masowa wyobraźnią / Z. Grębecka, J. Sadowski (eds.). Kraków, 2007; Murawski M. Palaceology, or Palace-as-Methodology: Ethnographic Conceptualism, Total Urbanism, and a Stalinist Skyscraper in Warsaw // Laboratorium. 2013. № 2. https://soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/97/840; О медиальной «карьере» памятника см.: Sawicki J. Der Warschauer Kultur- und Wissenschaftspalast in der polnischen Öffentlichkeit. Eine historisierende Verortung des größeren Hauses Polens vor und nach 1989 // Von der Ablehnung zur Aneignung? 2014. P. 127–140.
58
Konwicki T. Mała apokalipsa. Warszawa, 1994. Р. 6.
59
Официальный сайт варшавского Дворца науки и культуры: http://www.pkin.pl.
60
Omiłanowska M. Post-Totalitarian and Post-Colonial Experiences. The Palace of Culture and Science and Defilad Square in Warsaw // The Post-Socialist City. Continuity and Change in Urban Space and Imagery / A. Kliems, M. Dmitrieva (eds.). Berlin, 2010. P. 120–139.
61
Два других памятника – это мемориал павшим советским воинам в Тиргартене (после раздела Берлина оказавшийся в западной части города) и мемориал в Панкове (Восточный Берлин). См.: Töpfer S. Das Sowjetische Ehrenmal in Berlin-Tiergarten. Zur prekären Lage eines prominenten sowjetischen Erinnerungsortes im geteilten Berlin 1945–1990 // Jahrbuch für historische Kommunismus-Forschung. 2013. S. 273–280.
62
Stangl P. The Soviet War Memorial in Treptow, Berlin // Geographical Review. 2003. Vol. 93. № 2. P. 213–236.
63
Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne / R. Koselleck, M. Jeismann (hrsg.). München, 1994. Об использовании сакральных мотивов в иконографии памятника см.: Töpfer S. Das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin. Anlage, Formensprache und ikonographische Tradition // Erinnern an den Zweiten Weltkrieg. Mahnmale und Museen in Mittel- und Osteuropa / S. Tröbst, J. Wolf (hrsg.). Leipzig, 2011. S. 127–135.
64
Das Treptower Ehrenmal. Berlin, 1987.
65
Hoffmann S.‐L. Sakraler Monumentalismus um 1900. Das Leipziger Völkerschlachtdenkmal // Der politische Totenkult. S. 249–280.
66
Koshar R. From monuments to traces: artifacts of German memory, 1870–1990. Berkeley, 2000. P. 193.
67
В книге Карен Тилл, посвященной памятным местам Берлина, памятник даже не упоминается: Till K. E. The New Berlin. Memory, Politics, Place. Minneapolis; London, 2005.
68
Musil R. Denkmale // Gesammelte Werke. Hamburg, 1957. S. 480–483.
69
См. главу «Политика памяти» из книги Н. Копосова «Память строгого режима: история и политика в России», опубликованную в «Русском журнале» (2011): http://www.russ.ru/pole/Politika-pamyati-i-memorial-nye-zakony.
70
Kundera M. Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale // Le Débat. 1983. Vol. 5. № 27. P. 3–23.
71
Miłosz Cz. Verfrühtes Denken. Mit einem Vorwort von Karl Jaspers. Köln; Berlin, 1954. S. 136.
72
Miłosz Cz. Die Straßen von Wilna. München; Wien, 1997. S. 106.
73

