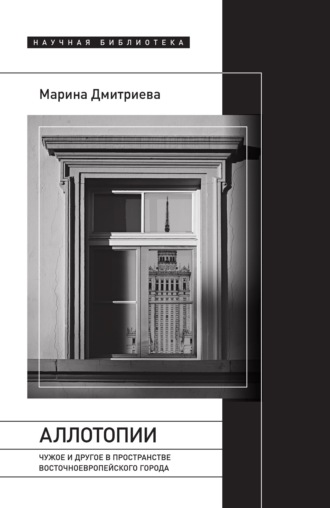
Полная версия
Аллотопии. Чужое и Другое в пространстве восточноевропейского города
При этом физиономия зависела от национальной оптики. «Польское Вильно» (Le Wilno polonais) – так назывался альбом фотографий, изданный вильнюсским фотографом Яном Булгаком в то же время, что и книга Штрука и Цвейга[75]. В нем частично воспроизведены те же мотивы.
В литературном портрете, который создали Чеслав Милош и Томас Венцлова (их диалог опубликован в том же сборнике), образ города определяется триумфальной барочной архитектурой. Для Венцловы вильнюсское барокко имело символический смысл. Это триумф цивилизации над советским бескультурьем. «Архитектура довольно рано начала восприниматься как знак… Это было возвышенное прошлое внутри странного и бесформенного настоящего»[76]. Для Венцловы, как и для Милоша, город имел европейское, то есть литовское или же польское, лицо.

Ил. 20. Обложка книги Wilna. Eine vergessene Kunststätte (Wilna, 1917)

Ил. 21. Интерьер Доминиканской церкви. Фото: Ян Булгак. Из книги Eine vergessene Kunststätte (Wilna, 1917)

Ил. 22. Дом с польским аттиком. Фото: Ян Булгак. Из книги Eine vergessene Kunststätte (Wilna, 1917)
Город, воспринимаемый таким образом, в то же время реальный и иллюзорный. Такими же качествами – воспроизведения реальности и ее преображения – обладает фотография. По мнению Ролана Барта, она является «странным медиумом, лишь касающимся реальности» (medium bizarre, frotté de réel). Объектив фотоаппарата передает предметы «объективно», но в то же время фрагментирует и искажает их[77].
На примере фотографий Вильны Яна Булгака и Моше Воробейчика я постараюсь показать, как это происходило. Мои источники – фотоальбомы города, напечатанные типографски, и фотографии, хранящиеся в частных и публичных архивах.
Речь пойдет о двойном механизме сохранения и искажения памяти средствами фотографии.
Польская Вильна в немецком путеводителе
Вскоре после немецкой оккупации города во время Первой мировой войны началось искусствоведческое обследование памятников[78]. Одно из них – книга «Вильна. Забытый художественный памятник» (Wilna. Eine vergessene Kunststätte). Как и другие «солдатские путеводители», эта книга была напечатана в армейской типографии Десятой армии Восточного фронта. Книга снабжена иллюстрациями и планом и посвящена «Завоевателю Вильны генералу Эйххорну»[79] (ил. 20).

Ил. 23. Польская усадьба. Фото: Ян Булгак. Из книги Eine vergessene Kunststätte (Wilna, 1917)

Ил. 24. Руины дворца Радзивиллов. Фото: Ян Булгак. Из книги Eine vergessene Kunststätte (Wilna, 1917)
Издание представляет собой по-немецки скрупулезное описание тех следов, которые оставили в этом городе различные народы и режимы. Германским культурным наследием считается магдебургское право или северогерманская кирпичная готика. Немецкий глаз раздражает отсутствие порядка и чистоты. За это, а также за общий хаотичный вид города несут ответственность «русские»[80]. Они же всячески мешают проявлению «европейского характера» города. Польское барокко хотя и заметно в городском пространстве, но заслонило собой немецкую готику. А еврейский квартал, отделенный от остальной части города, запутан и отличается «восточным» характером. Все эти рассуждения снабжены иллюстрациями, многие из которых – фотографии Яна Булгака. Большинство мотивов, таких как «Остра Брама» или «Интерьер Доминиканской церкви», ранее публиковались в виде открыток (ил. 21). Другие были, по всей вероятности, сняты для путеводителя.
«Дом с польским аттиком» (ил. 22) или «Небольшая польская усадьба» (ил. 23) показывают не выдающиеся памятники архитектуры, а памятные места польской национальной культуры. Надписи на различных языках могли бы послужить иллюстрациями к книге Милоша. Даже руины дворца Радзивиллов (Литовская династия) «в теперешнем состоянии разрухи» (ил. 24) относятся к мотивам из польского репертуара.

Ил. 25. Еврейская улица. Фото: Ян Булгак. Из книги Eine vergessene Kunststätte (Wilna, 1917)
Памятник другой истории – «Храм Муравьева» (ил. 25). Возведение памятника Михаилу Муравьеву-Виленскому, усмирителю Польского восстания 1863 года и губернатору Северо-Западного края, а также царице Екатерине II (оба – работы Марка Антокольского, уроженца Вильны) сопровождались протестами польского населения города. Их «свержение» после отступления русских войск было отмечено современниками как символический акт освобождения.
Fotografia ojczysty
Ян Булгак (1876–1951) родился в городке Новогрудек (теперь Белоруссия). В 1912 году он открыл свое фотоателье в Вильнюсе. До этого учился в Дрездене у фотографа Хуго Эрфурта, известного мастера портретной фотографии. Вильна и до Булгака была известна как центр фотографии: там работали такие фотографы, как Станислав Филиберт Флёри, братья Чиж, Ян Куруши-Воробьев[81]. Вскоре Булгак стал заниматься созданием городского фотоархива. После открытия польского университета Стефана Батория, где в 1919 году художник Фердинанд Рущиц создал факультет изящных искусств[82], Ян Булгак руководил там мастерской фотографии[83] – единственным в своем роде университетским учебным заведением в Европе. Его собственный проект заключался в документации памятников польской культуры, или, как он называл это, «мартирологии нации»[84].
Первым результатом этого устремления был альбом с фотографиями Булгака «Вильно и Виленский край» (Wilna i ziemia Wileńska), изданный Рущицем в 1931 году[85]. Центральное место в нем занимает глава Второй Польской республики маршал Юзеф Пилсудский. Пилсудский был родом из Виленской губернии и провел свое детство и юность в Вильне, тогда входившей в состав Российской империи. Задача книги – апология города, особенно в соперничестве с Варшавой, с опорой на свидетельства многовековой истории и современности. Художников Фердинанда Рущица и Людомира Слендзинского, а также искусствоведа Станислава Лоренца (который затем стал руководить отделением охраны памятников в варшавском Министерстве культуры и искусства) называли «апостолами здешности» (apostoly tutejosci)[86]. Лоренц организовал радиопередачи о вильнюсских памятниках, Рущиц создал эскизы оформления ратуши, городского герба и почтовых марок с государственной и городской символикой. Булгак написал в этой книге главу о природе, иллюстрированную фотографиями, в которых он стремился подчеркнуть единство ландшафта, города и его жителей.
Из этого патриотического настроя возникла концепия Fotografia ojczysty («фотография родины»), которую Булгак представлял до Второй мировой войны. Книга под таким названием вышла в 1951 году во Вроцлаве[87].
Если в период между войнами этим понятием он определял культурный ландшафт Вильны и окрестностей (включая теперешнюю Белоруссию), то после Второй мировой войны и потери Вильны для Польши эта идея распространилась на всю Польшу и преобразовалась в идею «польскости»[88]. При этом он опирался на немецкую традицию Heimatfotografie, которая, по его мнению, должна была бы, как это было в Вильне, преподаваться в университете[89]. В последние годы жизни он стремился создать «правдивый и прекрасный образ Родины». Эта концепция была сродни формальным основам соцреализма.
Моше Воробейчик – Мой Вер – Моше Равив
На факультете изобразительных искусств Вильнюсского университета, в классе живописи Людомира Слендзинского, учился в начале 1920-х годов молодой уроженец Вильны Моше Воробейчик (1904–1995). В 1927-м он перебрался в Баухаус в Дессау.
Из любительских снимков, сделанных «лейкой» в Вильне во время пасхальных каникул 1929 года, возникла фотокнига «Еврейская улица в Вильне» (Jewish Lane in Wilna / Ein Ghetto in Osten. Wilna, 1931). Она был издана в издательстве «Орелль Фюссли» в Лейпциге и Цюрихе на четырех языках: идиш, иврите, английском и немецком.
Булгак и Воробейчик по-разному воспроизводили на своих фотографиях памятные места родного города. И сами эти фотографии стали культовыми объектами, или lieux de mémoire, по выражению Пьера Нора.
Оба мастера относились к фотографии как к искусству. Булгак создал термин фотографика (буквально фото плюс графика). Стилистически его фотография относилась к пикториализму XIX – начала XX века, то есть он использовал изобразительные и технические приемы, сближающие фотографию с изобразительным искусством. Воробейчик представлял тот тип экспериментальной фотографии, который возник в Баухаусе. Возможно, еврейский Вильнюс Воробейчика был ответом на польский взгляд Булгака.
Странно, что их никогда не рассматривали вместе, будто они жили на разных планетах.
Ян Булгак, родившийся в Новогрудском уезде Минской губернии, провел большую часть жизни в Вильне, пережив там и советскую, и немецкую оккупацию. В 1945 году он бежал. Все его негативы, подаренные городу, погибли в пожаре. Оставшуюся часть жизни он прожил в Варшаве.
Моше Воробейчик многократно менял города, страны и даже свое имя[90]. В 1927–1928 годах он прошел в Баухаусе вводный курс у Йозефа Альберса, посещал курсы Кандинского и Клее, кроме того – курс фресковой живописи у Хиннерка Шепера[91]. Но в 1929 году он переселился в Париж, где поступил в École Technique de Photographie et de Cinématographie (Техническую школу фотографии и кинематографии), в дополнение к чему посещал вечерние курсы живописи у Фернана Леже в Académie Moderne (Современной Академии)[92]. Воробейчик поддерживал многочисленные контакты с представителями художественной богемы. В их круг входили Мэн Рэй, Филипп Супо, Андре Мальро или Илья Эренбург, как и его сокурсники по Баухаусу. Учившаяся там фотограф Флоранс Анри также обосновалась в Париже. Воробейчик присоединился к международной группе художников, которые создали École de Paris (Парижскую школу)[93], и, среди прочего, участвовал с несколькими живописными работами в организованной Блезом Сандраром выставке «Еврейские художники из Литвы в Париже 1930-х годов»[94]. В то же время он работал на договорной основе фотокорреспондентом для парижского агентства Photo-Globe и газеты France soir. Его фоторепортажи из Польши, Испании и Палестины были опубликованы в журналах Vu, Art et métiers graphiques, Esprit, Varietés. Revue mensuelle illustrée de l’esprit contemporain, Esprit Nouveau. В 1933 году в Galerie d’Art Contemporain (Галерея современного искусства) на бульваре Распай была выставлена его фотоинсталляция. В Париже он принял псевдоним Мой Вер, под которым вышла его книга «Париж – 80 фотографий».
Будучи убежденным сионистом, Воробейчик – Мой Вер переселился в 1934 году в Палестину. Там начиная с 50-х годов он жил в колонии художников Цфат и занимался преимущественно живописью. Своей фамилии, звучавшей по-русски (Воробейчик, то есть маленький воробей), он придал древнееврейское звучание, превратив ее в Равив. Он стремился познакомиться с еврейской символической и религиозной традицией, используя формальные средства Баухауса. В камере-обскуре, оборудованной в его студии в Цфате, он по-прежнему предавался алхимии фотопроизводства. Воробейчик умер в преклонном возрасте в январе 1995 года.
Еврейский Вильне
Фотографии Вильны Моше Воробейчика демонстрировались на выставке, сопровождавшей сионистский конгресс в Цюрихе в 1929 году. Художественный критик Эмиль Шефер предложил художнику сделать из них фотокнигу (Schaubuch) для серии, которую он выпускал в издательстве «Орелль Фюссли»[95]. Публикации на разных языках и резонанс в Америке свидетельствовали о больших ожиданиях, связанных с этой книгой. Тираж в 12 500 экземпляров был распродан очень скоро.
В предисловии к фотографическому альбому Воробейчика 1931 года известный еврейский писатель Залман Шнеур писал:
Город Вильна обрел теперь… своего истолкователя. Этот автор сумел обойти традиционно-шаблонное, преодолеть сентиментальное, свойственное видам синагог и старых кладбищ. Он устремлял взгляд на саму жизнь, на то, как она пульсирует здесь же, на месте. <…> Здесь видно восприятие как живого, так и неорганического, зданий и людей. Перемешивается старинное и современное, торжественное и повседневное. <…> Так и выросла эта книга: память о Еврейской улице, музей в миниатюре, полный дрожащих теней и радостей прошлого[96].
В своей рецензии на книгу, опубликованной в американской еврейской газете Jewish Daily Forward, Макс Вайнрайх резко атаковал точку зрения Шнеура[97]. Выдвинутая Шнеуром «формула еврейской Вильны» как раз и символизирует то шаблонное и сентиментальное, против чего он борется. Более того, писатель, по словам Вайнрайха, пытается представить еврейскую жизнь как крепость, отгороженную от внешнего мира. Из чередования света и тени, наполняющих книгу, Шнеур выбирает теневую сторону: в тени, в промежутке между днем и ночью, евреи выползают из своих убежищ, чтобы пожить своей жизнью, заработать хоть сколько-то деньжонок, чтобы поженить своих детей.
Вайнрайх вовсе не мог согласиться с этой точкой зрения. Прошли времена, когда родители знакомили своих детей. Теперь молодые люди женились сами, не спрашивая родителей. Евреи больше не хотят скрываться в темноте, напротив, им хотелось бы получить шанс выйти из своих темных пещер на солнечный свет.
Мы создали здесь синагоги и библиотеки с их многочисленными фолиантами. Дайте же нам теперь доступ к сокровищам всего мира! Это послание, которое адресовали мне фотографии Воробейчика[98].
Как в предисловии, так и в рецензии подчеркивались значение и качество фотографий Вильны, сделанных Воробейчиком, но интерпретации, предложенные обоими авторами, были различны. В то время как для Шнеура книга являла квинтэссенцию еврейской жизни в Вильне, но в то же время представляла собой и своего рода музей прошлого, Вайнрайх попытался увидеть в этом путь в будущее. Вильна была, с его точки зрения, лучше всего пригодна для того, чтобы служить мостом между прошлым и будущим, ведь сам он был одним из основателей и руководителем Yidisher Visnshaftlekher Institut (YIVO) (Еврейского научного института), который работал с 1925 по 1939 год в польской Вильне. Тем самым Вайнрайх категорически указал – особенно по отношению к американским донаторам YIVO – на Вильну как на место новой еврейской культуры, его представление не было окрашено ностальгией по традиционной еврейской жизни. Хотя старые камни и здания и напоминали о тысячелетней традиции еврейского народа, но на них следует строить, чтобы создать новую культуру[99].
Правда, Вайнрайх сожалел о том, что Воробейчик не обратил внимание на многое из того, что для него теперь уже было частью реальности Вильны. Он спрашивал несколько наивно: «Почему не были показаны атлетические упражнения футбольной команды или восторженные лица взрослых, если их команда забивает гол?» Другими мотивами могли бы быть, например, демонстрация еврейских трудящихся, бойскаутов или здание политехникума[100].
Такие отклики, которые вызвала эта книга у двух знаменитых читателей, указывают на различные когнитивные карты города. Совершенно разные коннотации и памятные места существовали не только для его многонационального населения (вспомним, что Милош говорил о городе «запутавшихся, перекрывающих друг друга зон»), сам еврейский город казался очень неоднородным. Престиж Вильны как «литовского Иерусалима», с одной стороны, и как центра светской культуры и политических идеологий – с другой, вызывал противоречивые ассоциации. В результате основания YIVO Вильна стала центром идишистской утопии «социального инжиниринга» «нового еврея».
Картина Вильны, которую дает Воробейчик, относится, несомненно, к традиционным формам и памятным местам еврейской жизни, к «гетто на Востоке», где каждый камень и каждое здание имеют собственную историю и связаны с прошлым. Вполне допустимо, что портрет «еврейского» города был задуман как своего рода ответ на фотографии «польской» Вильны, сделанные Яном Булгаком. Вместе с тем 65 фотоколлажей Воробейчика – это не просто документы прошлого, к которым их очень часто сводят. В своей композиции и подборе в книге они представляют общую концепцию, которая была в своем роде абсолютно новаторской.
Совершенно необычная книга, которая наглядно представила архаические формы жизни еврейской общины в Вильне в фотографиях, с точки зрения формальных озарений превосходившая все, что до сих пор видели на рынке фотоальбомов, —
так писал Герберт Молдерингс, историк фотографии, представлявший немецким читателям Моше Равива-Воробейчика, известного среди специалистов и как Мой Вер[101].
Именно это бросавшееся в глаза расхождение между выбором мотива – еврейской жизнью в ее традиционной форме – и «модерновостью» художественного решения вызвало дискуссии и, вероятно, обеспечило успех книги.
О книге и о фотографе
Открытая процитированным выше предисловием писателя Залмана Шнеура, книга (ил. 26) состоит преимущественно из фотографий, снабженных только краткими подписями. При этом речь идет о фотоколлажах и фотомонтажах, в каждом случае – двух или четырех на развороте.

Ил. 26. Обложка книги Ein Ghetto im Osten – Wilna (Zürich – Leipzig, 1931)

Ил. 27. Разворот из книги Ein Ghetto im Osten – Wilna: «Человек и его физическое пространство»

Ил. 28. Страница из книги Ein Ghetto im Osten – Wilna: «Красивы эти улицы»
Он вырезал острыми ножницами квадраты и круги, строго ограниченные и тем более содержательные, наполненные содержанием Еврейской улицы, —
пишет Шнеур[102]. Многие фотографии размещены по диагонали, что придает им динамическое напряжение. Фрагменты противопоставляются цельным снимкам, портреты – архитектурным сюжетам. Каждый разворот представляет собой продуманную тему, мотивы группируются в тематические комплексы. Важный сюжет – это человек в связи с архитектурой, в своей сфере жизни (ил. 27). Тем самым картина города, пробужденная Воробейчиком, принципиально отличается от архитектурных фотографий Яна Булгака, в работах которого архитектура Вильны предстает в своем чистом образе и большей частью без людей. Архитектурные детали в книге Воробейчика представлены точно так же «физиогномически», как и люди. Вырезанные части составляются в общую картину; оттиски негативов, наложенных друг на друга, дают хрупкую картину парящей реальности, что в свою очередь устраняется резко сфотографированными фрагментами распадавшейся каменной стены или мостовой. Приближение и дистанция, индивидуальное и умноженное контрастно противостоят друг другу, как и отдельные и двойные фигуры.
Важная тема – это мотив дороги, улица в игре света и тени, в контрасте фактуры камня и эфемерного виде́ния (ил. 28). Как заметили и Шнеур, и Вайнрайх, свет и тень являются лейтмотивами книги. Но это же – один из главных мотивов интерьерных снимков Яна Булгака, сделанных совсем в другом эстетическом ключе. У Воробейчика лучи света, освещающие интерьеры библиотеки Страшуна или очерчивающие силуэты на улице, наполненной светом, по временам представляются мистическим посланием читателям. Иногда человек заменяется отсылками – шляпой, оставленной на столе для чтения. Мотивом является изъеденный временем угол стены или древнееврейская надпись в окне. Противопоставления – тяжелый – легкий, закрытый – открытый, материальный – иллюзорный – являются предшественниками позднейших эстетических решений в проекте Ci-Contre, над которым Воробейчик начал работать в то же время[103].
Старость и молодость в качестве одного из сюжетов книги показаны не контрастно, а как единое целое. Пример – портрет со старой женщиной и играющим ребенком. В выборе тем и мотивов узнается пример Германа Штрука[104]. Изоморфизм людей и сооружений в Вильне примерно десятью годами ранее произвел очень сильное впечатление на него и Арнольда Цвейга[105]. В то же время благодаря устоявшимся мотивам, смещенным углам зрения и различным перспективам возникает эффект отчуждения, которое сразу же ставит под сомнение традиционное и шаблонное. Обычные сцены повседневной жизни начинают колебаться. Их реальность стирается, превращаясь в виде́ние. Фотомонтаж дополняется принципом коллажа, возникшим из опыта художника-графика. Из фотографий вырезаются, ретушируются и компонуются «квадраты и круги», чтобы быть сфотографированными еще раз. Благодаря многогранному взгляду возникает картина города, которая в одно и то же время кажется реальной и иллюзорной, близкой и удаленной.
Позже художник так вспоминал историю возникновения книги о Вильне:
Дессау был городом рабби Мозеса Мендельсона. Однажды, когда я пришел в библиотеку при синагоге, которая достойна своего названия, мне пришли на ум те образы, что я оставил позади, покидая Вильну. Образ ученика, склонившегося над книгой в старом молитвенном доме, старик, играющий в переулке на скрипке, ребенок за игрой в классики. …Когда началась Пасха, я отправился в Вильну. Весна была солнечная, и я заставил камеру работать для меня[106].
Воробейчик сумел сохранить за годы, проведенные в Баухаусе, в международном художественном сообществе, не только внутреннюю связь с родным городом, но и самосознание еврейского художника. Признание в этом – его дипломная работа: мобиле, установленное между двумя зеркалами (фотография с отражением лица Воробейчика находится в архиве Рут и Майи Равив в Израиле[107]). Эта инсталляция включает в себя надписи на различных языках, в том числе и на древнееврейском, – метод, который играет определенную роль и в его фотоальбоме о Вильне. Фотографии Вильны возникли весной 1929 года, во время пасхальной поездки домой. Снимки были сделаны фотокамерой «лейка», которую художник купил на промежуточной остановке в Берлине.
«Спонтанный» характер фотографий Вильны[108], который часто провозглашал и сам художник, опровергается материалом из семейного архива. Помимо негативов и фотоотпечатков отдельных сюжетов, из которых впоследствии должны были возникнуть коллажи, сохранились и маленькие, выполненные сепией эскизы с размытыми контурами, на которых художник удерживает не только сюжеты, но и композицию: например, сюжет с часами можно увидеть на эскизе и фотоколлаже «Старая синагога» (ил. 29). Следовательно, работа над фотокомпозициями сопровождалась эскизами. Это подтверждает продуманный характер фотомонтажей и фотоколлажей, для которых фотографии служили только исходным материалом. Следует подчеркнуть приоритет глаза художника-графика по сравнению с «фотоглазом», дающий себя знать и в позднейших работах Воробейчика. Его видение Вильны возникло прежде, чем он стал делать картины. Почему, однако, он избрал фотографию, а не живопись или графику, чтобы воплотить это видение в жизнь?

Ил. 29. Страница из книги Ein Ghetto im Osten – Wilna: «Старая синагога»
Фотография и живопись
Моше Равив-Воробейчик, которого нередко ставят в один ряд с такими классиками современной фотографии, как Люсия Мохой, Умбо, Т. Люкс Фейнингер, Флоранс Анри, Жермена Круль или Герберт Байер, никогда не считал себя только фотографом. Говорят, Андре Мальро, увидев проекты для фотоальбома «Париж», сказал: «Месье, вам надо было бы стать живописцем!» На это Воробейчик ответил:
Да я ведь и есть живописец. Игра поверхностей и их глубина в моих работах – результат первого года, проведенного мною в Баухаусе. Нюансы живописи я изучал у Пауля Клее; структуры и внутреннее движение – от Кандинского; свет в фотографиях – от Ласло Мохой-Надя. Все трое были моими учителями[109].
В вводный курс Йозефа Альберса входили, кроме того, овладение композицией, искусством полиграфического исполнения книги, монтажом, столярным ремеслом и графикой, а также созданием плакатов для кино и театра. Это было многостороннее образование, позже пошедшее на пользу Равиву-Воробейчику.
Правда, во время его учебы в Баухаусе фотография еще не утвердилась как дисциплина[110]: Мохой-Надь преподавал в металлической мастерской, но, как говорят, его книга «Живопись, фотография, фильм» (1927)[111] оказала большое влияние и на Воробейчика, и на его однокурсников. Идеи фотографии как «формирования света» и «нового зрения» были тогда испробованы в любительских снимках студентов Баухауса скорее творчески и в игровой манере, нежели рассматривались в качестве самостоятельного предмета. Да и Т. Люкс Фейнингер, зарабатывавший в качестве фотографа, называл себя, подобно Воробейчику или Герберту Байеру, «художником, а не фотографом»[112].

