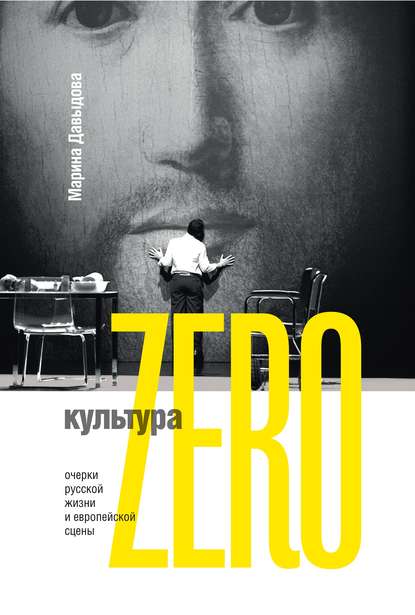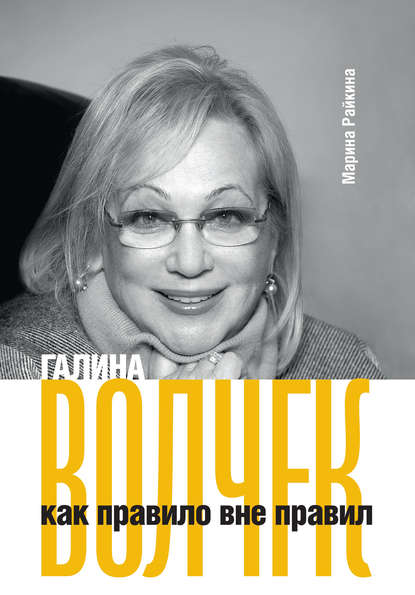Полная версия
Между эмансипацией и «консервативной революцией». Женщины в театральных проектах Гуго фон Гофмансталя
Вернусь, однако, к статье Мартенсен. Она называется «Сценический костюм и клавир как документы работы над ролью: Размышления об Анне Бар-Мильденбург в роли Клитемнестры в „Электре“ Рихарда Штрауса». В 2013 году Мартенсен опубликовала диссертацию, основывающуюся на изучении режиссерских экземпляров Бар-Мильденбург к «Кольцу Нибелунгов» в мюнхенской опере – знаменитая вагнеровская певица была также первой женщиной, работавшей над этим произведением в качестве режиссера (1921/22). Однако даже если само по себе возвращение имен женщин, работавших на режиссерском поприще в годы становления этой профессии в ее современном понимании, – это огромный шаг в осмыслении agency женщин в театре первой половины XX века, то надо признать его все же наиболее очевидным и наименее трудным. Наличие такого материала, как режиссерские экземпляры, – огромное подспорье в исследованиях в этом направлении. Однако, работая над ролью, исполнительницы редко что-либо подобное оставляют – может, именно потому, что работают для себя, не нуждаются в фиксации деталей или не привыкли ее осуществлять. В качестве доступных документов Карин Мартенсен в данном случае обнаружила лишь артефакты, связанные с созданием сценического костюма для Клитемнестры, и клавир оперы, которым пользовалась певица и в котором оставила свои заметки. Результаты исследования Мартенсен были гораздо менее впечатляющи, чем в случае «Кольца Нибелунгов», однако именно поэтому они показались мне столь драгоценны.
В сущности, Мартенсен пришла к очень скромным выводам: к самой констатации факта, что Анна Бар-Мильденбург работала над ролью самостоятельно, а также имела возможность видоизменять костюм, созданный по эскизам Альфреда Роллера. Однако и это является немаловажным достижением, если принять во внимание, что, по традиции, ведущая роль в успехе этого произведения на венской сцене отводится самому композитору.
К выводу о самостоятельном решении этого образа Мартенсен приходит, изучая пометки Анны фон Мильденбург, сделанные в ее клавире, и фотографии, отличающиеся от эскиза и описания костюма на премьерном спектакле. В качестве документов более субъективного характера приводятся письма Мильденбург к ее будущему мужу Герману Бару. В частности, речь идет о письме от 19 февраля 1909 года, когда труппа начала репетировать со Штраусом: Мильденбург на этот момент сомневается, принимает ли Штраус ее решение, не кажется ли ему, что Клитемнестра «недостаточно безумна и болезненна» (Martensen 2015: 44). Певица в этот момент, однако, думает, что еще не смогла раскрыть перед композитором своего замысла, но что, когда он воплотится на премьере, она сможет им автора убедить (Ibid.).
Тем не менее Мартенсен считает, что документация самого замысла (заметки в клавире) слишком обрывочна, чтобы пытаться его восстановить. Она также отказывается от того, чтобы сличить найденный ею материал с образами, к которым прибегали критики, писавшие о выступлениях Бар-Мильденбург в этой партии (приводя всего лишь одно высказывание авторства Рихарда Шпехта). Я вижу за этой позицией очень важный жест: вместо того чтобы засыпáть читателя расхожими – кочующими из книги в книгу – описаниями демонической Клитемнестры, оставленными рецензентами, Мартенсен сосредоточивается на немногих сохранившихся артефактах авторства самой Бар-Мильденбург. Благодаря этому баланс в ее статье оказывается нарушен в пользу артистки (тогда как в традиционных нарративах истории театра он квазиестественным образом нарушен в пользу сонма критиков-мужчин, составивших об этом образе определенное мнение).
Эта тактика кажется мне очень важной для того, что я называю «искажением перспективы», которым история, отказавшаяся от гендерного дальтонизма, может и должна атаковать и традиционные исторические нарративы, выдающие себя за гендерно нейтральные.
Сколь ни было бы мне понятно, почему Мартенсен в своей статье имеет право именно так фокусировать свое исследование, в своем собственном исследовании, однако, мне хотелось бы пойти дальше. И вернуть в картину – со всеми оговорками, не забывая о стоящей за такими репрезентациями идеологии, – мнения многочисленных критиков. А также расширить саму перспективу, в которой, на мой взгляд, следует рассматривать это создание Анны Бар-Мильденбург. Важнейшим свидетельством, через призму которого хотелось бы рассматривать Клитемнестру, является опять же документ авторства самой певицы, а именно ее дневниковые записи – к сожалению, не принятые во внимание Мартенсен.
«Две Клитемнестры» Анны Бар-Мильденбург
Хотелось бы сказать еще об одном обстоятельстве. В своей статье Мартенсен справедливо указывает на целый ряд фактов, свидетельствующих об особой важности этой роли для Анны Бар-Мильденбург. Это отнюдь не лишне, ведь певица вошла в историю все же прежде всего как исполнительница партий в операх совсем другого композитора – а именно Вагнера. Однако Клитемнестра входила в число ролей, принесших ей международную славу: с ее участием прошла в 1910 году в Лондоне премьера этого произведения. Мартенсен обращает внимание, что именно этой ролью в 1916 году Бар-Мильденбург прощалась с труппой Венской придворной оперы, членом которой она являлась с 1898 года. После этого певица уже никакой труппе не принадлежала, но, естественно, среди сцен, на которых она продолжала выступать, была и венская (носящая теперь имя Государственной оперы). Мартенсен указывает, что приглашали сюда Бар-Мильденбург по преимуществу опять же в этой партии. А в 1931 году на Аугсбургском оперном фестивале именно эта роль стала прощальной – впоследствии певица на сцену оперного театра уже не выходила.
Однако Мартенсен проходит мимо одного важного факта: многочисленных лекций Бар-Мильденбург, которые певица проводила в самых различных городах с 1925 по 1946 год. Доклады, сопряженные с показами, чаще всего носили название «Музыка и движение»; их программа могла отличаться в деталях и, конечно, зависела и от состава участников (Анна Бар-Мильденбург привлекала к показам также своих учениц). Однако, за редким исключением, первая часть двухчасовой программы всегда заканчивалась эффектным сопоставлением Клитемнестры из оперы Глюка «Ифигения в Авлиде» и одноименного персонажа из «Электры» Штрауса – составляя, таким образом, одну из доминант музыкального вечера.
Лекции, поэтические/музыкальные вечера традиционно считаются дополнительной – и чаще всего компенсаторной – деятельностью артистов сцены и рассматриваются в биографиях в качестве всего лишь дополнительного материала. Во многих случаях это, наверное, справедливо. Трудно удержаться от предположений, что такая деятельность носит характер эрзаца, компенсирует невостребованность на сцене, если артист/артистка предпринимает лекции тогда, когда ее/его не занимают в спектаклях, когда имеются физические препятствия, из‐за которых, согласно эстетическим нормам данного времени, артист/артистка уже не может взяться за те или иные роли. Среди таких препятствий может быть возраст и болезнь. В случае Анны Бар-Мильденбург тот факт, что она столь активно взялась за лекции, мог трактоваться как – сопровождавшая ее на протяжении чуть ли не всей ее карьеры – неуверенность, не подведет ли ее на спектакле голос; в числе причин, заставлявших сосредоточиться на лекционной деятельности, можно назвать отсутствие постоянных контрактов (а затем и объявленный уход со сцены) и, наконец, возраст, из‐за которого артистка могла считать себя уже непригодной, чтобы исполнять со сцены Изольду или Кундри.
Кэтрин Келли, анализируя схожую ситуацию в биографии великой английской актрисы Эллен Терри, призывает к переоценке такого рода творчества, по крайней мере по отношению к женщинам, традиционно играющим в театре подчиненную роль. После ухода из театра Lyceum и смерти Генри Ирвинга, между 1910 по 1921 годами, Эллен Терри – знаменитая исполнительница ролей Офелии, Порции, Беатриче, леди Макбет – объездила со своими шекспировскими лекциями Англию, США, Австралию и Канаду. Келли обращает внимание не только на то, что во время этих лекций Терри, например, смогла сыграть Розалинду из «Как вам это понравится» (то есть из пьесы, которая не интересовала Генри Ирвинга и потому так никогда и не оказалась на афише «Лицея»), но «в качестве писательницы и критикессы» «начала преодолевать разрыв между практикуемой ею викторианской ролью служения ви́дению художников-мужчин и современной ролью служения собственному ви́дению» (Kelly 2011: 65).
Материал лекций Анны Бар-Мильденбург ждет столь же углубленного анализа, какой представила Келли по отношению к шекспировским лекциям Эллен Терри. Как и в случае Терри, этот материал обилен: тексты самой Бар-Мильденбург, легшие в основу лекций (хотя, в отличие от текстов Терри, их отнюдь не исчерпывающие); многочисленные отклики в прессе (часть из которых стоит наравне с подробными театральными рецензиями); личные воспоминания тех, кому довелось быть на этих вечерах… В настоящей главе я смогу остановиться только на одном удивительном факте: во всех лекциях Клитемнестра Штрауса была противопоставлена Клитемнестре из «Ифигении в Авлиде» Глюка. Было ли это вызвано одним лишь желанием продемонстрировать, как различие в музыкальном стиле диктует различие в движениях исполнительницы?
Обе Клитемнестры не раз оказывались рядом и в критических работах, подводивших итог сценической деятельности Анны Бар-Мильденбург. Можно сказать, что обе партии очерчивали амплитуду ее возможностей: она не пела ничего более раннего, чем Глюк, и ничего более позднего, чем Рихард Штраус. Однако если вчитаться в слова критиков, то не останется сомнения, что речь шла не только о музыкальной виртуозности. Как бы то ни было, критики также соотносят обе партии с мифом о Клитемнестре, и в этом мифе так или иначе присутствует не только самая известная его часть (в которой Клитемнестра предстает убийцей собственного мужа и врагом своих детей – мотивы же ее сводятся к желанию жить с любовником), но и начало ее истории (Клитемнестра – мать, защищающая дочь Ифигению от того, чтобы та была принесена в жертву Агамемноном). Разумеется, опера Глюка не дает возможности трактовать это начало слишком антипатриархально (в этой опере, написанной по мотивам одноименной трагедии Расина, сама фигура Агамемнона подправлена: он всячески противится требованию богини Дианы, жреца Калхааса и всего народа о принесении Ифигении в жертву; не встает вопроса и о самой цели предполагаемого жертвоприношения, которой является отправка мужчин на Троянскую войну; к тому же вторжение deus ex machina делает ритуальное убийство ненужным, отменяет его). Несмотря на это, существенно иной образ Клитемнестры, который предлагает эта опера, по крайней мере ставит вопрос о том, как была переосмыслена Клитемнестра как в варианте Гофмансталя, так и в положившем этот текст на музыку произведении Штрауса, но и – смею сказать – в творении Софокла, переработкой которого Гофмансталь предпочитал подавать свою пьесу.
Пораженный автор
В рецензиях на партию Анны Бар-Мильденбург в опере Штрауса доминирует образ колосса на глиняных ногах. Ее Клитемнестра обладает властью, но эта власть шатка, свидетельством чего являются преследующие героиню кошмары. Вместе с тем, в отличие от Электры, которая жаждет конфронтации с реальностью происшедшего много лет назад преступления и постоянно возвращается к нему, Клитемнестра бежит от этих воспоминаний, отрицает их. В рецензиях это проявляется в описании Клитемнестры как (предположительно) морфинистки, убегающей от действительности. Фактически именно разрушительный итог такого побега и оказывается в фокусе описаний – а, например, не моральное суждение о Клитемнестре, когда-то нарушившей (патриархальный) порядок и, совершив кровавое преступление, узурпировавшей власть. Сам акт убийства, которое столь подробно воссоздает в своей речи Электра, словно продолжает не касаться Клитемнестры. Только этот побег от реальности, само наличное состояние Клитемнестры – человеческой руины – и должны свидетельствовать о том, что преступление имело место. Чаще всего, однако, критика предлагает читателю эту связь додумать – или, может, не думать о ней вовсе? Иногда создается впечатление, что Мильденбург явила своим творением некий самостоятельный перформанс, существовавший в значительной мере отдельно от того мифа, в который он был вписан. Так ли это?
В своем письме Анне фон Мильденбург Гофмансталь писал о «глубоко волнующем и неожиданном впечатлении», которое состояло в том, что благодаря ее Клитемнестре он смог преодолеть известное отчуждение к собственному произведению – и, надо понимать, и к опере Штрауса, поскольку в то же самое время он пишет Анне фон Мильденбург, что спектакли в Дрездене и Берлине не взволновали его «ни на полкрейцера» (письмо, написанное после генеральной репетиции 19 марта 1909 года. Цит. по: Hofmannsthal und Bahr 2013: 311). Я уже вспоминала об отчуждении Гофмансталя от своего текста; здесь удивительно то, что он сообщает об этом артистке, с которой, по всей видимости, не имел контактов: известно всего лишь об одном письме Гофмансталя к Анне фон Мильденбург, написанном ранее, а именно 14 января 1907 года, где в первых же словах он просит простить, что пишет ей, не зная ее лично. Хотя связь Анны фон Мильденбург с другом писателя – Германом Баром – началась еще в 1904 году, сам Гофманталь с певицей не был лично знаком. Единственное письмо 1907 года содержало приглашение на его доклад, однако Анна фон Мильденбург ответила на визитной карточке, что прийти не сможет. В пользу версии, что Гофмансталь так и не познакомился до 1909 года с Анной фон Мильденбург (которая в августе этого же года станет женой Бара), свидетельствует и тот факт, что именно в отосланном после премьеры «Электры» письме Гофмансталь выражает восхищение чуть ли не всеми предыдущими ролями певицы: Брюнхильдой, Ортрудой, Амнерис, Изольдой, Фиделио и Донной Анной.
Вспомнить в этом же письме о своем отчуждении от текста «Электры» («дело, которое меня касается и не касается, этот давний приводящий в оцепенение стих») нужно Гофмансталю, чтобы объяснить суть произведенного впечатления: «Это дело… заново начало существовать в моих глазах, и столь удивительным образом…» (цит. по: Ibid.). Диктовало ли эти столь сильные слова одно лишь желание сделать комплимент звезде венской оперы? Зная, насколько отчуждение от собственного произведения представляло для Гофмансталя жгучую проблему, вряд ли можно это предположить. Ясно, однако, что «это дело» (как называет Гофмансталь, по всей видимости, свой проект переработки мифа об Электре) стало заново его «касаться», «заново начало существовать» в его глазах, когда акцент неожиданно оказался смещен с Электры на Клитемнестру.
Что именно увидел Гофмансталь на спектакле в венской опере? Об этом можно отчасти узнать из его письма к графу Харри Кесслеру от 26 марта 1909 года. Здесь также проводится мысль о том, что венская постановка «возвышается, как башня, над берлинской и даже над дрезденской» (Hofmannsthal und Kessler 1968: 215). Более того, Гофмансталь пишет другу: «Ты можешь себе спокойно сказать, что, хотя ты до сегодняшнего дня эту оперу слышал, ты еще ее не видел. Дворец, ворота, служанки, факелы – все здесь начало существовать, собственно говоря, в первый раз» (Ibid.; выделено автором). Из всех исполнителей Гофмансталь выделяет лишь Мильденбург в роли Клитемнестры, и дальнейший рассказ о премьере состоит только из описания ее игры и попытки передать впечатление от нее. «Мильденбург – Клитемнестра, в невероятном кносском одеянии чудно-насыщенного алого цвета, в широких штанах, верхняя часть туловища ходит ходуном от вздымающихся талисманов, с 6‐метровым шлейфом, который беспрестанно гонится за ней, когда она, подстегиваемая страхом, мечется вверх и вниз по темной лестнице – как она уходит, как бросается на Электру, как если бы была неким морским чудовищем, несомым волной человеческих тел, то, как она разражается смехом, крутится вокруг себя, в то время как под ее телом собирается волна склоненных рабынь и несет ее вверх, чтобы одним махом всех их, с их пятьюдесятью факелами, отбросило от темных ворот, – это одна из прекраснейших пантомим, которые я когда-либо видел в театре и которые я когда-либо надеюсь увидеть» (Ibid.). Как видим, и перечисленные в начале этого отчета о спектакле детали инсценировки: «Дворец, ворота, служанки, факелы…» – тоже оказываются связаны именно с образом, созданным Мильденбург.
Можно возразить, что хотя Гофмансталь и сосредоточивает свой нарратив на Мильденбург, но в конце концов не сообщает почти ничего, во-первых, об интерпретации вокальной партии, а во-вторых, описывает пантомиму через такие составляющие, как костюм (авторства Альфреда Роллера), сценографию (его же) и, наконец, через элементы, которые мы склонны относить к режиссуре (мизансцены, организация движения героини и второстепенных персонажей, массовые сцены). Почему, однако, Гофмансталь, который должен был быть искушен относительно роли режиссера в подобном действе, по какой-то причине связывает эффект не с режиссурой, а именно с исполнительницей? Может быть, потому, что уже по опыту знает, что все те же элементы оказались бы мертвы, если бы не были соединены энергией исполнительницы, взявшей на себя роль «корифея» (заметим, что это слово, взятое из практики древнегреческого театра, не имеет эквивалента женского рода)? Может быть, сценический текст (например, разительное несходство с другими сценами спектакля) содержал намеки на то, что именно Мильденбург могла быть движущей силой по крайней мере этой части спектакля? Может быть, Гофмансталю были известны прозаические детали постановки, которые заставили бы его сомневаться, что заслугу надо приписать режиссуре?
Загадка режиссера «Электры»
Насчет последней, однако, нет ясности. Имя режиссера не фигурировало на афише. До сегодняшнего дня в официальном реестре премьер венской оперы постановщик значится «неизвестным»37.
Мартенсен считает, что уже с первой – дрезденской – постановкой «Электры» было связано создание так называемого режиссерского клавира, в котором были закреплены указания по актерскому исполнению и движениям. Исследовательница упоминает о наличии такого режиссерского клавира с пометками дрезденской исполнительницы партии Клитемнестры Эрнестины Шуман-Хайнк, находящегося в одном из архивных собраний США. Многое, однако, остается неясным. Например, кто был автором этого режиссерского клавира? Мартенсен говорит о «команде авторов», под каковой понимает Штрауса и Гофмансталя. Она приводит параллель с созданием подобного клавира в случае «Кавалера розы» (Martensen 2016), однако никак не комментирует того факта, как могло получиться, что необходимость клавира и его содержание не раз обсуждаются «командой авторов» в переписке, с одной стороны, но, с другой, – в этом обсуждении все же не Штраус с Гофмансталем берутся за создание такого клавира: дело это предполагается поручить сценографу и автору костюмов Роллеру. В своей несколько более поздней статье (Martensen 2017) Мартенсен обращает внимание на то, что режиссером спектакля был занимающий эту должность в венской придворной опере Вильгельм фон Виметал, однако по-прежнему определяет его функцию как реализацию поставленных режиссерским клавиром задач.
Мог ли Гофмансталь столь удивиться увиденному на венской сцене, мог ли выразить радость и изумление, если бы он сам был одним из авторов режиссерского клавира, по которому создавался спектакль? Но даже если это было так, а Гофмансталь предпочел об этом из скромности умолчать, то все равно встает вопрос: благодаря чьим усилиям, например, сцены с многочисленными служанками производили столь сильное впечатление (даже если предположить, что горящие в их руках пятьдесят факелов – преувеличение)? Фактом, однако, остается, что рецензенты премьеры не воспринимали этот спектакль как результат некой авторской режиссуры. Возможно, у них были на это фактические основания, возможно, речь идет о том, что в то время мало кто из оперных рецензентов был восприимчив к режиссуре как к особому искусству.
И конечно, даже если ради справедливости поставить вопрос, не стоит ли – по крайней мере, в связи с массовыми сценами – вспомнить режиссера Вильгельма фон Виметала, не остается сомнений, что относительно самостоятельности решения Анны фон Мильденбург Мартенсен, конечно, права. (Это подтверждает и дневник певицы: «Репетиции протекали совершенно гладко. Виметал предоставлял мне возможность делать все, что я находила нужным»38.) Из впечатления, переданного в письме Кесслеру Гофмансталем, вырисовывается образ, как ни странно, очень подвижный, импульсивный; главная метафора Гофмансталя: это волна, с которой словно сливается «морское чудовище», как он называет здесь героиню (писатель начинает развивать эту метафору с описания вздымающейся груди с колышущимися на ней талисманами; волнообразные движения рабынь видятся как продолжение пластического рисунка самой Клитемнестры, усиленного ее костюмом – «вздымающимися талисманами» и «гонящимся» за ней шлейфом). Можно сказать, что во всем этом поэтическом описании Гофмансталь словно избегает того, чтобы так или иначе отнестись к Клитемнестре Анны фон Мильденбург как к персонажу (наделенному определенной функцией в сюжете, более того – в мифе, переосмысление которого предлагает произведение; наконец, персонажу, к которому применимы моральные оценки) – вместо этого он подает ее как часть стихии. Начиная свое описание отсылкой к микенской культуре («кносское одеяние» – так воспринял он костюм героини), Гофмансталь словно сигнализирует, что видит в исполнительнице Клитемнестры воплощение своего замысла переосмыслить классическую Античность в пользу более архаичного пласта древнегреческой культуры. В этом плане функция в драме / функция в мифе данного персонажа словно отступала на второй план.
«Электра» под прицелом «борцов с патологией»
Рецензенты премьеры могли мыслить иначе. Для большинства из них «Электра» связывалась не с устремлениями Гофмансталя к архаизации Античности и поиску современной менады, а прежде всего с реформой музыкального языка Рихардом Штраусом. Мало того что подавляющий объем всех рецензий (в том числе тех, из которых можно составить себе хоть какое-то представление о театральной составляющей спектакля) отведен оценке музыки Штрауса и не содержит образов, сопоставимых с теми, на которые вдохновился автор либретто в своем письме Кесслеру. Пожалуй, заметить то, что удалось Гофмансталю, мешал и тот факт, что рецензенты рассматривали спектакль как очередную – после «Саломеи» Штрауса – атаку на традиции и привычки оперной публики. «Электра», таким образом, виделась прежде всего либо еще одним проявлением той же «болезни», какой ряд критиков хотел представить «Саломею», или же – проявлением того же пульса современности, который были готовы расслышать в этой опере критики, более лояльные к нервной взвинченности музыки немецкого композитора. Гофмансталя же эта зависимость от «Саломеи» не интересовала; напротив, он хотел бы рассматривать свое произведение совсем отдельно от положенной Штраусом на музыку уайльдовской драмы. Он искал в этой «Электре» совсем другое – и увидел в результате другое. Добавлю сразу: не только он один; однако все же надо признаться, что среди рецензентов премьеры другое готовы были видеть лишь единицы. Или, иначе говоря, – это другое не слишком вписывалось в нарратив борьбы с музыкой Штрауса или за нее.
Разумеется, если говорить о персонажах оперы, главной мишенью тут была обречена стать Электра (ее спела и сыграла Люси Марсель – певица американского происхождения, которую, по словам Штрауса, он сам в последний момент «доставил» венскому оперному театру из Парижа, поскольку тогдашний директор Феликс Вайнгартнер не мог подобрать исполнительницу на главную роль, – однако о нюансах этой истории позже). По поводу этого исполнения мнения рецензентов премьеры разделились точно так же, как и относительно Клитемнестры Анны фон Мильденбург, однако все же об этой Электре ни тогда, ни позже не было написано столь проникновенных слов, как о Клитемнестре, а авторы многих рецензий однозначно намекали, что героиней вечера все же стала последняя.
Тем не менее справедливости ради надо отметить, что целый ряд рецензентов не поддался аффективному воздействию Клитемнестры – Мильденбург, ограничившись лишь словами дежурной похвалы или же едкими замечаниями о том, что музыка дала певице возможность создать еще один демонический характер (в качестве предыдущих героинь такого рода, пожалуй, могли служить вагнеровские Кундри и Ортруда, уже давно находившиеся в репертуаре артистки). Так, рецензент газеты Pester Lloyd 25 марта 1909 года отмечал, что артистка «преувеличивает безо всякой меры», рецензент газеты Deutsches Volksblatt (25 марта 1909 года. Цит. по: Jahn 2014: 54) посчитал остроумным оценить готовность Мильденбург стать исполнительницей «змеиного танца» в варьете, поскольку «от вывихов членов ее тела волосы становились дыбом». Такого рода замечания обычно сопровождались язвительными предположениями, что автор музыки должен был быть всем этим доволен. Упомянутый выше критик, например, отметил Мильденбург первой в числе доставивших Штраусу удовольствие, предварив свое замечание такими словами: «Силы нашей оперы смогли отдать должное намерениям композитора. По крайней мере, после генеральной репетиции он сказал, что совершенно очарован».