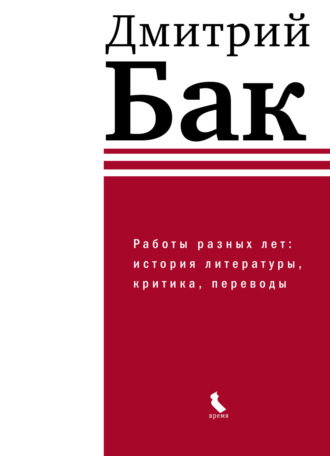
Полная версия
Работы разных лет: история литературы, критика, переводы
Нельзя всерьез предназначать свое произведение литературоведу, однако, явившись, он с полным правом способен довершить процесс становления «архитектоники действительного мира». В данной связи представляется весьма важным следующее замечание Бахтина, прямо связующее специфику присутствия исследователя в произведении с ключевыми для современности общефилософскими (физическими) концепциями: «Позиция экспериментирующего и наблюдающего в квантовой теории. Наличие этой активной позиции меняет всю ситуацию и, следовательно, результаты эксперимента. Событие, которое имеет наблюдателя: как бы он ни был далек, скрыт и пассивен, уже совершенно иное событие» (ЭСТ. С. 340).
Настало время подвести некоторые итоги. Литературоведческий акт, нередко представляющийся самоочевидным, не требующим специального внимания, должен сам по себе стать объектом исследования. Необходимо не только стремиться к простой адекватности методики изучаемому предмету, но и к укоренению самой методики в ответственном поступке литературоведа. Исследователь словесности, как и прочие участники события встречи, должен «ценностно еще предстоять себе», не сливаться неразличимо с применяемым терминологическим, материальным аппаратом («материальное литературоведение» – думается, это обозначение вполне уместно, по аналогии с применявшимся Бахтиным термином «материальная эстетика», а также – «материальная этика»). Каждое научное понятие, термин должны быть имманентно преодолены, приобщены к архитектонике реального поступка-мысли литературоведа.
Однако какого именно литературоведа? Идет ли здесь речь о конкретном биографическом лице? Очевидно, тогда теоретическое литературоведение оказалось бы вовсе невозможным. При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что задача специальной экспликации литературоведческого акта лежит на магистральном для литературной теории пути. Мы уже говорили о том, насколько важно для науки разграничение понятий «автор», «персонаж», «читатель» и реальных людей, пишущих, читающих книги, либо являющихся прототипами литературных героев. Вычленение и прояснение каждого из перечисленных понятий имело двоякие последствия.
Во-первых, была преодолена иллюзия, что можно беспрепятственно проводить прямые аналогии между автором, героем, читателем и какими бы то ни было их конкретными «заместителями» (антибиографизм). Во-вторых, стало невозможным (в особенности это актуально для автора и читателя) беспроблемно отождествлять ту или иную эстетическую инстанцию с любым реальным лицом. Акт написания (прочтения) не был раз навсегда образцово осуществлен конкретным человеком. И с другой стороны, оба акта представляют собою специальную проблему, не вовсе безразличны событию жизни того, кто в них участвует, требуют ответственной инкарнации.
При экспликации позиции литературоведа дело обстоит аналогичным образом. С одной стороны, совершенно неуместно прямолинейно привлекать к исследованию какие-либо факты из жизни создателя той или иной литературоведческой концепции, конкретного биографического лица. А с другой – нельзя представлять дело так, что однажды созданная совершенная система понятий превращает акт исследования в абсолютно «прозрачный», не подлежащий ответственному поступку. Иными словами – что любой человек может без затруднений занять место автора концепции и автоматически получить прежние, гарантированные результаты. При этом литературовед превращался бы в зеркало произведения, сводился бы к материальному, терминологическому облику методики, утрачивал бы способность входить в событие эстетического диалога со своим незаемным голосом, co своего незаместимого, единственного ответственного места, позиции в бытии. Необходимо исследование феноменологии типов литературоведческой вненаходимости, аналогичной типологии авторства, способов завершения персонажа, особенностей читательского восприятия художественного текста.
В данной, а также в следующей за нею статьях используются следующие сокращения:
ВЛЭ – Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
ФП – Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., 1986.
ЭСТ – Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Эстетика М. Бахтина в контексте генезиса идеи исторической поэтики[53]
В одной из работ П. А. Гринцера сформулирована, казалось бы, вполне очевидная мысль: «Необходимым предварительным условием построения исторической поэтики является анализ эволюции самих представлений о литературе, изменений в содержании самого термина “поэтика”»[54]. Популярнейшее терминологическое словосочетание «историческая поэтика» (далее: ИП) в сознании литературоведа почти автоматически ассоциируется с концепцией академика А. Веселовского. Думается, что было бы небесполезно применить методологические принципы ИП к самому термину «ИП», что позволит обнаружить его более ранние аналоги и проследить судьбу ИП в последующие десятилетия литературоведческого развития.
Мы не претендуем на сколько-нибудь полное исчерпание означенной проблемы. Наша задача скромнее – пунктирно обозначить общую логику генезиса ИП и, главное, показать на конкретных анализах произведений исключительную роль «персоналистической» эстетики М. Бахтина в формировании ключевого понятия науки о литературе в его современном объеме и содержании.
Очевидно, что первоистоки идеи исторической поэтики следует искать в рамках переломной эпохи рубежа XVIII–XIX веков, когда на смену риторическому строю культуры пришла современная, антитрадиционалистская культурная парадигма[55]. Именно тогда исследовательская рефлексия, ранее замкнутая в сфере описания вневременных, универсальных аксиом культурного бытия, достигла качественно нового уровня. В зоне рефлексии оказался сам факт наличия некоей системы аксиом, канонов. Это углубление рефлексии, собственно, и означало переход к антитрадиционализму, переход от старого к новому, когда это новое требует выражения в формах научной рефлексии или поэтического обобщения»[56]. Осознать, объективировать, эксплицитно описать факт наличия системы канонов означает для исследователя способность выйти из этой системы, увидеть ее извне, всю целиком. С такой, внеположной точки зрения универсальная единственность культурной аксиоматики может быть поставлена под сомнение, ибо становится возможной и качественно иная аксиоматика. Причем эту гипотетическую систему культурных первооснов можно создать уже не «сверху», в пределах «готового» риторического слова, но «снизу», следуя естественной новизне реальных фактов литературного развития (живого «поэтического обобщения», если вернуться к приведенной выше цитате из Веселовского).
Шиллеровское разделение поэзии на «наивную» и «сентиментальную»[57], исторически гетерогенное определение идиллии, сатиры, элегии в качестве традиционных жанров и в качестве разновидности «господствующего строя чувств» следует, очевидно, считать первым шагом в генезисе идеи ИП[58]. Однако это была еще «историческая поэтика в себе», ибо сложный процесс преобразования канонических жанров в разновидности осуществления художественного целого[59] был открыт и описан эмпирически, не осознавался еще в качестве основного методологического принципа исследования литературных явлений разных эпох, то есть не входил в зону исследовательской рефлексии.
Разгоревшаяся на переломе XVIII–XIX веков во многих европейских странах полемика классицистов и романтиков («архаистов» и «новаторов») во всех ее конкретно-национальных вариантах представляла собою живой пример плюрализма в истолковании основополагающих литературоведческих категорий. По сути дела, это был не просто спор двух литературных направлений, но столкновение двух глобальных историко-культурных парадигм. Однако в споре неустранимо присутствовал момент непонимания; каждая из сторон в большинстве случаев находилась всецело внутри своей позиции, другую воспринимая лишь оценочно, отстраненно, как архаический пережиток либо как недопустимую модернизацию непреложных основ культуры. При этом сам факт правомерности существования различных поэтических систем, их равнодостойности осознан не был, а, следовательно, субъектно-субъектный диалог культур подменялся субъектно-объектной полемикой[60].
Идея ИП как основополагающего принципа науки о литературе впервые была выдвинута А. Веселовским. До Веселовского «исторически» могла восприниматься лишь сама история, внелитературный ряд фактов (Гердер и культурно-историческая школа, братья Гримм и мифологическая школа); аналогично: поэтика могла быть только «поэтической», замкнутой в статичном универсальном мире риторических аксиом (теоретики классицизма). «Историческая история» и ИП, впервые сошедшиеся в концепции Веселовского, породили не эклектический термин-гибрид, но смыслотворную идею, влияние которой на современное литературоведение можно считать определяющим. До наших дней остается насущной выдвинутая ученым «задача исторической поэтики: отвлечь законы поэтического творчества и отвлечь критерий оценки его явлений из исторической эволюции поэзии – вместо господствующих до сих пор отвлеченных определений и односторонних условных приговоров»[61].
Однако переход от шиллеровской «исторической поэтики в себе» к «ИП для нас» у Веселовского сопровождался и важными методологическими потерями. Допустив закономерность существования качественно различных состояний словесности, литературовед утратил непосредственный духовный доступ внутрь какого бы то ни было из этих состояний. Позиция исследователя предполагала в данном случае отстраненный, духовно нейтральный взгляд на изучаемое явление. Различные парадигмы словесности существовали обособленно, могли поочередно становиться объектом позитивистских штудий, но были лишены шанса вступить в диалог непосредственно друг с другом[62]. Единственно возможное их взаимоотношение – объектно-объектное, то есть отношение между двумя разными предметами изучения.
О. М. Фрейденберг отмечала, что «его <Веселовского> историзм еще пропитан плоским эволюционным позитивизмом ‹…›, его сравнительный метод безнадежно статичен. Проблемы семантики Веселовский совсем не ставит ‹…›, его интересует общая механика литературного процесса в целом, но не движущие причины этой механики»[63]. Литературные явления в концепции Веселовского выстроены в четкую, подчиненную строгим логическим (генетическим) закономерностям безличную цепь, именно поэтому область «предания», – фольклор и древнейшее искусство, – куда более притягательны для Веселовского, нежели область «личного творчества» (исключая, быть может, литературу романтизма). Весьма характерно следующее высказывание ученого: «Главный результат моего обозрения ‹…› важен для истории поэтического творчества. Я отнюдь не мечтаю поднять завесу, скрывающую от нас тайны личного творчества, которыми орудуют эстетики»[64].
Именно бахтинская «эстетика словесного творчества» позволила восполнить позитивистские изъяны исторической поэтики Веселовского.
Для последнего генезис литературного явления, как правило, важнее его индивидуальной духовной сути (потому-то Веселовского, условно говоря, более Петрарки занимает «петраркизм»). Позиция Бахтина совмещает плодотворные особенности шиллеровской «ИП в себе» и эксплицированной исторической поэтики по Веселовскому. Способность к духовному проникновению в сущность целостного организма культуры у Бахтина не замыкается в рамках «своей» парадигмы словесности (как это было в полемике классицизма и романтизма), но распространима на принципиально различные хронологически и типологически стадии литературного развития. При этом и только при этом условии становится возможным полновесное понимание, диалог, субъектно-субъектные идеологические отношения между нетождественными парадигмами литературы. Возникает ориентированный на «ответственность» (Бахтин), этически укорененный и обоснованный интерес исследователя к контакту с целостным организмом конкретного произведения, анализ которого у Веселовского практически отсутствовал[65].
Общекультурное значение работ М. Бахтина не ограничивается рамками «чистого» литературоведения, не исчерпывается оно и границами «эстетики словесного творчества». Причины лавинообразного роста популярности идей Бахтина в последние десятилетия следует, видимо, искать в их глубокой соприродности научным поискам нашего века. Переход от логического синтаксиса к «актуальному членению» в языкознании; от аналитической философии – к проблеме понимания и интерпретации в современной герменевтике; выдвижение на первый план прагматического аспекта в семиологии, усиленное внимание к изучению сменяющих друг друга «парадигм» (Т. Кун), «эпистем» (М. Фуко) мировидения, – вот некоторые векторы, определяющие развитие современного знания. В этом же плодотворном русле развивалась и концепция выдающегося русского ученого.
Поиски особого рода функционального подхода к изучаемым явлениям, движение к функциональности личностно уникальной и генетически неоднородной – таков отправной пункт исследований Бахтина. Используя излюбленную дихотомию самого ученого, можно сказать, что его эстетическая концепция не дана, но задана. Она изначально сопротивляется внесубъектному, овеществляющему истолкованию первоначальных бытийственных аксиом («я», «самосознание» и др.). Отвергая обезличенные, «квазигенетические» обобщения, Бахтин настаивал на необходимости учитывать единственность, ценностную уникальность подобных интуиций, подчеркивал, что их желательно рассматривать в контексте «единственного единства» ответственного «события бытия». Такой ход мысли совпадал с общеевропейским отказом от гегелевского рациоцентризма на рубеже веков. Однако отказ этот нередко предполагал отрицание не только очевидного ранее тождества бытия и понятия, взаимной трансформируемости слов и вещей, но и игнорирование всякой теории, выходящей за пределы опыта отдельного субъекта. Эссеистика ницшеанского толка была демонстративно вненаучна, нравственно релятивна. Раз невозможна единая, интерсубъектная, «линейная» наука, то мои исследовательские мерки и этические принципы актуальны для меня одного, – такова здесь логика рассуждений.
Бахтин, напротив, всегда стремился творить строгую науку, причем с учетом непреложной и напряженной этической ответственности ее создателя. Перед нами – наука особого рода, наука, не перешагивающая через уникальность субъекта, но существенно (функционально!) интонированная его самоощущением. (И это – XX век! Ср. необходимость учета позиции субъекта-наблюдателя в современных «неклассических» естественнонаучных теориях.)
Исходя из сказанного, можно попытаться объяснить многие стилистические черты бахтинского жизнефилософствования. Так, ничтожно малое количество ссылок, отсутствие традиционного «научного аппарата», видимо, объяснялось не столько тем, что Бахтин весьма часто по известным причинам писал в стол, торопливо, конспективно беседуя с самим собою. Думается, что ученый вел напряженный диалог прежде всего не с «преднаходимыми» научными концепциями, но – напрямик – с Бытием, искал в нем собственные ценностные основания, не стремясь к тому, чтобы его работы стали очередным звеном в обезличенной, внеэтичной цепи научного развития. Отсюда благородный «провинциализм» Бахтина, осознанная укорененность в «большом» времени, стремление избежать сиюминутных полемических боев (как в ранний, петроградский период, так и в поздний, московский).
Диалог неслиянных, ценностно уникальных и несводимых друг к другу голосов присутствует не только внутри бахтинской концепции полифонического романа. Эстетика Бахтина в целом – реплика в возможном диалоге. Она властно (и вместе с тем мягко) требует от нас включенности в ситуацию понимания, экспликации, осторожной и доверительной беседы и не допускает внесубъектной, «перекодирующей» полемики (равно как и плоского, однозначного согласия, «одержания»). Эстетику Бахтина нельзя концептуально выстраивать, ее необходимо пережить как событие-поступок. Бахтинская мысль – не линейный, нейтрально гносеологический факт, но уникальный в своей персональности акт, требующий ответного акта: нелинейного, ответственного, укорененного в нашем непосредственнейшем человеческом бытии.
Перейдем от необходимых предварительных констатаций к постановке основной проблемы. Рассмотренные нами особенности, роднящие эстетику Бахтина с культурой нашего столетия, не отменяют, однако, того парадоксального факта, что ученый почти не обращается непосредственно к анализу литературных явлений XX века. Мы попробуем объяснить этот парадокс, используя ключевое для Бахтина понятие «кризиса авторства».
Для Бахтина основополагающим является понятие границы, разделяющей область жизненного «события бытия» персонажа и сферу завершающей активности автора. Наличие указанной границы порождает существенную для события эстетического завершения гетерогенность «композиционных» и «архитектонических» форм (ВЛЭ, 20), неслиянность сознаний автора и персонажа. Под «кризисом авторства» Бахтин понимает то или иное разрушение исконной гетерогенности жизни и авторской активности. При этом граница становится проницаемой, трансгредиентность автора персонажу ставится под сомнение, взамен смыслотворного, чреватого формой неслиянного единства порождается аморфный, гомогенный конгломерат. Он оказывается бесперспективно открытым либо в бесконечность незавершимого «события бытия» персонажа, либо – в бесконечность авторского завершающего усилия, не наталкивающегося на предмет завершения.
Соответственно, Бахтин описывает «кризис авторства» в двух вариантах. В первом из них – «герой завладевает автором. Эмоционально-волевая предметная установка героя, его познавательно-этическая позиция в мире настолько авторитетны для автора, что он не может не видеть предметный мир только глазами героя; автор не может найти убедительной и устойчивой точки опоры вне героя» (ЭСТ, 18). Таким образом, равновесие эстетического и этического нарушается здесь в пользу последнего. Именно в этом направлении шло «освобождение» героя у Достоевского (ЭСТ, 20), что позже было описано Бахтиным в рамках концепции полифонического романа.
Во втором варианте «кризиса авторства» дело обстоит противоположным образом: «Автор завладевает героем ‹…›. Рефлекс автора влагается в душу или уста героя» (ЭСТ, 20). Причем «если в первом ‹…› случае страдала форма, то здесь страдает реалистическая убедительность жизненной, эмоционально-волевой установки героя в событии» (ЭСТ, 20).
Обратимся ко второму варианту, связанному, по мысли Бахтина, с романтической поэтикой: «Таков герой романтизма: романтик боится выдать себя своим героем и оставляет в нем какую-то внутреннюю лазейку» (ЭСТ, 21). Среди персонажей указанного типа у Бахтина упомянуты: «Герой-скиталец; странник, искатель (герои Байрона, Шатобриана, Фауст, Вертер, Генрих фон Офтердинген и др.)» (ЭСТ, 157).
Остановимся подробнее на романе Новалиса. Его герой для наших целей наиболее показателен, так как Генрих – не только «скиталец-странник»: он прежде всего поэт, бард, непосредственный носитель завершающей точки зрения («рефлекса автора»), внесенной в произведение. Авторство при этом оказывается под угрозой, эстетически внеположная позиция словно бы вырастает изнутри фабулы. Проблема искусства, возможности всякого авторства рассматривается, таким образом, не отстраненно (как, например, в «Штернбальде» Тика), но непосредственно: под сомнением оказывается существование того самого романа, который читатель держит в руках.
Кризисная бесперспективность абсолютизации становления в противовес бытию, томления (sehnsucht) – в ущерб вещественной статике была осознана самими романтиками. Так, Шеллинг подчеркивал, что «становление может быть мыслимо лишь при условии самоограничения. ‹…› Если бесконечно порождающая деятельность станет распространяться, не наталкиваясь ни на какое сопротивление, то порождение ‹…› будет происходить с бесконечной быстротой, и в результате получится бытие, а не становление». «Абсолютная свобода, – резюмирует далее Шеллинг, – тождественна с абсолютной необходимостью»[66]. Аналогичную «романтическую критику романтизма» (уже не в философском, но в поэтическом контексте) встречаем у Ф. Шлегеля: «Пока художник вдохновенно что-то придумывает, он находится в несвободном состоянии. ‹…› Он будет стремиться сказать все. ‹…›. Тем самым он теряет достоинство самоограничения. ‹…› Даже дружеская беседа, если ее нельзя прервать в любое мгновение, несет в себе что-то несвободное»[67]. В свете высказывания Шлегеля очевидна не только неизбежность появления в практике иенских романтиков жанра фрагмента, но и проблематичность создания нефрагментарного произведения большого объема.
Итоговый роман Новалиса является реализацией его ультраромантических творческих установок. По Новалису, «роман есть жизнь, принявшая форму книги»[68]. По мере развития событий становится все более очевидно, что «роман должен быть сплошной поэзией»[69]. В пространственном измерении путь Генриха из Эйзенаха в Аугсбург эквивалентен пути из мира внепоэтического (Генрих: «Я никогда не видел ни одного стихотворения»[70]) в мир искусства. В хронологическом измерении в романе на наших главах приближаются «глубокомысленные романтические времена, таящие величие под скромным деянием» (216)[71].
Конечный пункт указанного движения – полное развоплощение реальности, превращение ее в поэзию. Так, в сцене встречи Генриха с отшельником происходит буквальное отождествление жизни и искусства: Генрих находит в одной из книг описание всей своей жизни, том числе и тех событий, которые пока не случились! Чем ближе к концу романа, тем яснее становится, что событийный ряд сам по себе все более утрачивает смысл. Наоборот – все большее значение приобретает самый процесс повествования, как бы освобожденный от своего объекта (событийной плоти). Реализуется одна из максим Новалиса: «Поэзия растворяет чужое бытие в своем собственном»[72].
Но возможна ли такая поэзия? Может ли быть эстетический акт сведен к наррации? Хвалы красоте и совершенству мира становятся почти непрерывными, но сам мир вещей и событий постепенно «тает». Перед нами не «ставшее» произведение, но изображение процесса его бесконечного становления (ср. вставную сказку Клингсора, которая поглощает и отменяет все бывшие прежде события, переводит их в призрачный, символически обобщенный план, вводит в качестве персонажей Сказку, Эрота и т. д.).
Очевидно, что в своем итоговом романе Новалис подошел к самой «границе изобразимости» (ЭСТ, 292). Событие рассказывания целиком поглотило рассказываемые события – именно поэтому столь отрывочны последние написанные Новалисом строки. Возникающая и набирающая силу фрагментарность – неизбежное следствие кризисного положения автора, который, будучи эстетически всесильным, оказывается не в силах «разглядеть» независимое событие бытия персонажа. Так реализуется мысль Бахтина о том, что «романтизм является формою бесконечного героя: рефлекс автора над героем вносится вовнутрь героя» (ЭСТ, 157).
По словам Тика, пересказавшего нереализованный замысел финала «Офтердингена», «не тем он (Новалис. – Д. Б.) занят, чтобы ‹…› изобразить то или другое происшествие… Он хотел выразить самую сущность поэзии»[73]. Сущность поэзии, однако, выразима только опосредованно, при наличии уверенной авторской вненаходимости миру героев. Новалис же («человек, почти до конца преобразовавший себя в дух»[74], по выражению Гессе), стремясь к непосредственному, «развоплощенному» овладению этой сущностью, оказался в конце концов перед лицом невыполнимости поставленной задачи.
Мы конкретизировали «романтический» вариант кризиса авторства на материале наиболее значительного немецкого «романа о художнике» (Künstlerroman) рубежа XVIII и XIX столетий. Однако особую актуальность приобрело бахтинское понятие «кризис авторства» на переломе веков XIX и XX. Ощущение «заката» культуры было тогда всеобщим, однако не всегда ясно осознавался самый механизм соответствия между социальными, научными, мировоззренческими катаклизмами и строением конкретных произведений искусства. Именно в начале века «обостренно стала проблема искусства в жизни, отношения “автор – произведение” и в принципе самого существования автора»[75]. Причем проблема эта нередко выдвигалась в произведении на первый план. Перед читателем оказывалась книга, шаг за шагом нащупывавшая пути собственного рождения.
Не объектно-тематическое, но непосредственное, методологически краеугольное «испытание авторства» было характерно для писателей самых различных идейных и творческих направлений, например, для М. Пруста и Р. Олдингтона. Так, прустовский рассказчик на протяжении многих лет (и многих сотен страниц) пытается проникнуть в суть происходящих вокруг событий, исключив из них самого себя. При этом этически ответственный субъект замещается аморфным потоком сознания. Разгадка, как известно, является Марселю на самых последних страницах[76] – он понимает, что вся его прошлая жизнь есть цепь неудачных попыток обрести утраченное время непосредственно эстетически, минуя сферу поступка, «события бытия»[77]. Только в этот момент фактически и начинается создание всего романного цикла – с самого начала, с «Комбре». Авторская вненаходимость, таким образом, не дана изначально, достигается в пределах самой книги.


