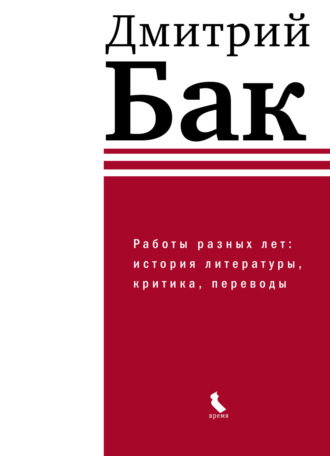
Полная версия
Работы разных лет: история литературы, критика, переводы
Все, что нами сказано, с поразительной проницательностью почувствовал и описал Борис Пастернак, человек, не только не чуждый теоретизированию как таковому, но, наоборот, весьма чувствительно относившийся к искусствоведению и философии. «Эстетики не существует… Не ведая ничего про человека, она плетет сплетню о специальностях. Портретист, пейзажист, натюрмортист? Символист, акмеист, футурист? Что за убийственный жаргон! Ясно, что это – наука, которая классифицирует воздушные шары по тому признаку, где и как располагаются в них дыры, мешающие летать»[41]. Бахтин высказывается более определенно: «Обедняющие теории, кладущие в основу художественного творчества отказ от своего места, от своей противопоставленности другим… – все эти теории… в эстетике объясняются гносеологизмом всей философской культуры XIX и XX веков, теория познания уже совершившейся эстетической деятельности, то есть делает своим предметом не непосредственно самый факт эстетического свершения, а его возможную теоретическую транскрипцию». При этом, подчеркивает Бахтин, «единство свершения события подменяется единством сознания, понимания, субъект-участник становится субъектом безучастного, чисто теоретического познания события» (ЭСТ. С. 79). Способ выхода из кризиса и здесь состоит в попытке приобщить эстетическое к единственному событию ответственного поступка: «Не теория (преходящее содержание), а “чувство теории”» (ЭСТ. С. 319). Ведь, как сказано в другой работе, «единственную единственность нельзя помыслить, но лишь участно пережить» (ФП. С. 91).
Между тем все обозримое развитие теории словесности происходило вовсе не под знаком возвращения исследовательского акта в жизнь, но как раз согласно закономерностям противоположного свойства. Долгое время искавшая приют под сенью смежных наук (истории, психологии, лингвистики и т. д.), литературная теория на рубеже прошлого и нынешнего столетий стала все более активно обращаться к поискам собственного, незаемного «образа научности». Этот образ постепенно сближался с точным знанием, целиком перемещался в пространство теоретического суждения, а вовсе не жизненного поступка[42]. «Так называемый “формальный метод”, – писал в середине 20-х годов Б. М. Эйхенбаум, – образовался … в процессе борьбы за самостоятельность и конкретность литературной науки»[43]. Согласно более позднему романтическому лозунгу 60-х годов, «литературоведение должно стать наукой», причем наукой, построенной согласно рационалистическим, математизированным образцам. Альтернативной такому подходу, по распространенному представлению, может быть лишь безответственная эссеистика, не обладающая ни малейшей степенью исследовательской достоверности. Бахтин еще в 20-е годы наметил до сих пор, к сожалению, не оцененный и недостаточно описанный третий пусть развития теоретического литературоведения, избегающий обеих крайностей, неминуемо приводящих либо к ценностной гарантированности литературоведческого теоретизма, либо – с другой стороны – к ценностной пустоте субъективного интерпретаторства.
Как же приобщить акт литературоведа к ответственному поступку, как удержать научное (воспроизводимое) высказывание в пределах уникального (невоспроизводимого) жизненного поступка? При всей широкой (и во многом – оправданной) популярности течений и школ, связанных с постструктурализмом, деконструкционизмом, в российском литературоведении последних лет намечается и антитеоретическая (от слова «теоретизм», а не «теория») тенденция: вернуть литературоведческий акт к исходному жизненному поступку, ситуации гуманитарного понимания (работы С. С. Аверинцева, А. В. Михайлова, В. В. Федорова, В. Е. Хализева и др.). Однако очевидного пути здесь нет: в чье жизненное целое должен быть возвращен литературоведческий поступок? Автора той или иной теоретико-литературной книги? Где находился, например, Владимир Яковлевич Пропп в тот момент, когда к нему пришла идея структурного анализа сказки? Или я, читая книгу «Морфология сказки», размышлял о только что проведенном со студентами семинаре, и потому-то…
Разумеется, все подобные рассуждения абсурдны. Прямолинейный возврат к биографизму невозможен. Литературоведение только тогда и обрело право научной автономии, когда стало различать (прежде всего благодаря усилиям Бахтина) биографическое лицо и носителя завершающей авторской позиции; реального подвластного бытовой оценке человека – и героя произведения; наконец, стихийного потребителя литературы, который рассуждает о прочитанном как об истории, случившейся с соседом, – и читателя как участника события эстетической встречи сознаний. Чтобы стать полноправным участником эстетического диалога, присоединиться к триаде «автор – герой – читатель», «литературоведу» непременно нужно освободиться от груза конкретных биографических подробностей – это аксиома. Каким же образом тогда возможно уповать на сближение незавершимого события бытия и завершенного словесного произведения? В литературоведении последних десятилетий наметились по крайней мере три реакции на описанный выше комплекс проблем и парадоксов. Первые две отчетливо противостоят друг другу, третья претендует на синтез крайностей.
Прежде всего приведем декларацию раннего тартуского структурализма (первая реакция): «То, что для формалистов означало исчерпывающий анализ литературного произведения, для сторонников структурального изучения… означало лишь приближение к определенному уровню анализа и было связано с интересом к содержанию… Итогом структурального изучения литературы должна явиться выработка точных методов анализа, определения функциональной связи элементов текста»[44]. Речь здесь безусловно идет об исследовании материала, в бахтинском смысле, но никак не содержания (жизненных этико-гносеологических ценностей и способов их эстетического освоения). Отличия (и весьма существенные) от материальной эстетики 20-х годов очевидны, но само отталкивание от формализма идет в русле, им же проложенном: «Понятие “идеи” и “поэтического представления действительности” не заменяются структурой “чего-то”. Необходимо изучить структуру идеи, структуру поэтического представления о действительности, то есть структуру словесного творчества»[45]. Логика бесконечного нанизывания языков описания здесь примерно такова: если нечто не вписывается в избранный ракурс структурального анализа, не охватывается им, то необходимо ввести в код дополнительные параметры и получить таким образом метаязык, учитывающий и объективирующий самый факт первоначально замеченной недостаточности низшего по рангу уровня описания. На осознание собственной недостаточности структура способна реагировать лишь очередным усложнением. Таким образом, реальная ситуация эстетического диалога и его литературоведческой интерпретации все более «закрывается», лишается связи с горизонтом ответственного поступка (ср. понятия «вторичная моделирующая система», «семиосфера» и т. д.).
Вторая, более поздняя литературоведческая реакция на теоретическое распутье 60-х годов – работы В. В. Федорова. Здесь, в противовес устремлениям структурализма, упор делается на освоенную произведением литературы предметную, «дословесную» реальность, а все, что относится к вербализации, объявляется факультативным, лежащим в плоскости акустических закономерностей, прямо не связанных с внутренним смыслом рассказанной реальности. «Фабульная действительность (воспринимаемая созерцателем) (т. е. видящим вещи, а не слышащим слова. – Д. Б.) закономерна, упорядочена социально-природными закономерностями…»[46]. Параллельной формой интерпретации является акустический закон, организующий некое материальное событие в действительность сюжета. «Звук» и «действительность» поэтому не связаны причинной связью, они соотносимы между собой как две различные формы преломления первичного целого в двух различных – сюжетной и фабульной действительностях»[47].
Поиск В. В. Федоровым «единого бытийственного контекста», горизонта, который мог бы объединить автора, героя и читателя произведения, вполне понятен, объясним и оправдан. Именно в этом контексте мог бы расположиться синтетически раздельный совместный поступок ответственных участников эстетического диалога, столь последовательно игнорируемый в структурализме. Однако данный контекст усматривается В. В. Федоровым лишь в предметном, фабульном, не оформленном словесно «поэтическом мире» произведения. Причем и «читатель переходит на внутреннюю точку зрения этого произведения. Перспектива этой точки, по сути, не отличается от перспективы фабульного лица»[48]. Вслед за читателем, по мысли В. В. Федорова, должен «последовать» и литературовед, исследовательский акт которого лишается автономии: «Научное сознание… формируется поэтическим миром в его стремлении осознать, понять себя». При этом факультативной, избыточной оказывается «деятельность ученого», которая «является формой активности поэтического мира, а сознание литературоведа – органом его самосознания»[49]. Чтобы избежать литературоведческого теоретизма, предлагается, как видим, вовсе отказаться от самостоятельного теоретического литературоведения.
«Третья реакция» на постановку проблемы инкарнации литературоведческого акта связана с разработкой понятия «художественной целостности» (работы М. М. Гиршмана, В. И. Тюпы и др.)[50]. Здесь констатируется неразложимое единство предметного, дословесного мира поступка, предлежащего литературе, и его знакового бытия в словесном произведении. «Предмет художественного освоения (человеческая жизнь) становится содержанием литературного произведения, лишь полностью облекаясь в словесную форму, лишь обретая в ней индивидуально-конкретное и завершенное воплощение»[51]. Таким образом, соблюден бахтинский принцип «телеологического анализа»: «понять внешнее произведение, как осуществляющее эстетический объект» (ВЛЭ. С. 17).
Подобный подход, на наш взгляд, содержит и существенный методологический изъян: убедительно характеризуя природу художественного слова (от рассмотрения которой, по сути дела, отказывается В. В. Федоров), концепция целостности совершенно проходит мимо природы слова литературоведческого. Оно мыслится как гарантированное, автоматически «адекватное» целостному предмету исследования, не представляющее собою особой проблемы (которая как раз В. В. Федоровым описана весьма проницательно и точно). «Целостно» увиденное литературное произведение являет собою ценностно открытое, становящееся событие, поступок, в котором диалогически взаимодействуют несводимые друг к другу инстанции: автор, герой, читатель. Однако в устах литературоведа сама по себе «целостность» – не более чем терминологический конструкт, «закрывающий» ситуацию диалога, не гарантирующий автоматически свершения поступка мысли либо поступка-видения. «Целостность», как и любой термин, претендующий на внесубъектную воспроизводимость, научную объективность, должна быть еще инкарнирована, ответственно приобщена к событию жизни исследователя, превратиться из послушного инструмента описания в предмет участного поступания.
В концепциях, связанных с понятием целостности, угроза теоретизма гораздо более весома, нежели в структуралистических штудиях. Для литературоведов, ищущих в словесном произведении «объективных» истин и закономерностей, угрозы теоретизма просто не существует (В. Б. Шкловского, как известно, интересовал производственный процесс, а не продукция творческой «фабрики»). В разбираемых же нами способах подхода к литературному произведению в центре внимания находится понятие, которое специально ориентировано против овеществления и монологизма в предмете исследования. Однако с тем большей вероятностью (и даже, так сказать, со своеобразным методологическим коварством) овеществляющий монологизм возникает в самом подходе к предмету – пусть целостному, открытому, но для меня уже раз и навсегда состоявшемуся, требующему от меня лишь выбора инструмента для анализа. Понимание того факта, что не только анализируемое произведение не овеществлено, не закрыто, но таковым же является и мое исследовательское «Я», в данный, единственный и неповторимый момент ответственно совершающее поступок познания, – понимание такого рода фатально отсутствует в кругозоре ученого-«целостника».
Бахтин подчеркивает, что «попытка найти себя в продукте (курсив наш. – Д. Б.) акта эстетического видения есть попытка отбросить себя в небытие, попытка отказаться от активности с единственного, внеположного всякому эстетическому событию места» (ФП. С. 94). В том-то и дело состоит, что и в поступке-мысли (как и в поступке-деле) «своею завершенностью… жить нельзя, нельзя поступать; чтобы жить, надо быть завершенным, открытым для себя, надо ценностно еще предстоять себе» (ЭСТ. С. 14).
Мнимо освободившись от теоретизма в области предмета исследования, «целостное» литературоведение (объективно – едва ли не самое плодотворное направление в современной теоретической «палитре») неизбежно сходится со структурализмом в теоретизме методологии. Главный признак – стремление к системности терминологии, к созданию понятий, которые бы покрывали все «пространство» исследовательского акта (ср., например, систему «типов художественности» – героика, идиллия, драматизм, сатира и т. д., – предложенную В. И. Тюпой[52]). Как только рядом с произнесенным понятием появляется рядоположное, поступок-мысль становится более затрудненным, так как перед нами оказывается понятийно, но не предметно «заготовленная» ситуация пассивного выбора из двух заранее готовых, внесубъективно, позитивно обоснованных возможностей.
Инкарнация литературоведческого акта становится проблематичной уже при контрадикторном противопоставлении применяемых понятий (типа «белое – черное»). Однако в данном случае между однозначно очерченными крайностями располагается все же «серое» или «бурое». При контрарном же противопоставлении (типа «белое – небелое») ответственный поступок-мысль становится почти невозможным: мне некуда войти моим актом поступания, между объемами двух предлагаемых понятий нет зазора. Передо мною только два (или более, но обязательно конечное число) заготовленных варианта исследовательского выбора, отчужденного от реального события бытия. Предельным случаем описанной безысходности поступка естественным образом оказываются столь популярные «бинарные оппозиции», родившиеся, как известно, в лоне предельно негуманитарной науки – фонологии. Бахтин специально подчеркивал малую совместимость логической системности и ответственного поступка: «Мы не имеем в виду построить систему возможных различных ценностей, логически единую… идеальную систему возможных различных ценностей… Не… инвентарный перечень ценностей, где чистые понятия (содержательно себе тождественные) связаны логической соотносительностью, собираемся мы дать, а изображение действительной конкретной архитектоники ценностного переживания мира» (ФП. С. 127).
Мы видели, что эстетическая концепция Бахтина трояким образом отражена в современном литературоведении. Ученые структуральной и постструктуральной ориентации всячески акцентируют содержащиеся у Бахтина выводы, сближающие позицию субъекта эстетического завершения с позициями героев (в особенности – в книге о Достоевском). Такая тенденция в пределе своем ведет к полному релятивизму, к констатации «смерти автора», к снятию самой проблемы авторства в пользу безоговорочного преобладания неукорененной в поступке позиции исследователя.
Ученые, апеллирующие к понятию «поэтического мира», в противовес структуралистам, остро ставят проблему инкарнации позиции литературоведа и ввиду постулированной ее невозможности (разрыв между предметным и словесным срезами реальности непреодолим) предпочитают вовсе отказаться от признания за литературоведческим деянием какого бы то ни было автономного статуса. Здесь на первый план выходит «внутренняя» позиция персонажа, под власть которой подпадают и автор, и читатель, и исследователь.
Наконец, ученые, ориентирующиеся на понятие целостности, стремятся обнаружить особые черты в позициях всех трех участников эстетического диалога, прийти к динамичному их синтезу. Однако при этом позиция литературоведа вовсе перестает быть проблемой, становится «прозрачной», несамостоятельной, то есть, по сути дела, функцией от системы применяемых понятий, что возвращает нас к принципам, так сказать, вторичного структурализма.
Очевидно, что каждое из трех рассмотренных нами постбахтинских решений проблемы позиции литературоведа страдает своими недостатками, абсолютизирует лишь одну из заложенных в концепции Бахтина идей. Между тем, выдвигая задачу преобразования в ответственный поступок единичных дела, мысли, видения, Бахтин предполагал совершенно иное разрешение указанной проблемы. Необходимо в событии эстетического диалога автора, героя и читателя обнаружить специфическое и уникальное «место», заготовленное для ответственного вхождения в диалог литературоведа. Или наоборот: в позиции литературоведа нужно эксплицировать те особенности, которые бы позволили ему без смысловых деформаций восполнить классическую троичную схему целостного произведения – до итоговой схемы целостного произведения-поступка. Кратко наметить некоторые первоначальные пути к разрешению этой двуединой задачи – основная цель наших дальнейших размышлений.
Литературоведческий акт по природе своей синтетичен. С одной стороны, он изоморфен реакции читателя, фиксирующей и завершающей преднаходимое событие эстетического отношения автора к персонажу. Однако, в отличие от читательской реакции, акт литературоведа по определению совершается в горизонте слова, а не жизненно-предметного отношения. В этом он подобен, как легко видеть, художественному акту автора (мы оставляем пока в стороне дохудожественный эстетический поступок созерцателя, не приводящий к созданию материального продукта, текста). Однако слово автора преднаходит не чужое слово, а – изначально – лишь сопротивление незавершенной реальности познания и поступка. Авторское слово служит инобытием стремления отнестись, увидеть (поступок-видение) слово литературоведа, кроме того, знаменует собою стремление понять, познать (поступок-мысль). Если реакция читателя направлена от словесной к предметной, смысловой деятельности автора, то литературоведческий акт, пройдя по обозначенному пути, вновь возвращается к горизонту авторского слова как такового.
Поступок читателя очевиден: совершая его, он вправе оставаться внутри своей повседневной человечности, то есть не «переходя на внутреннюю точку зрения», адекватно (но не косно, зеркально, а диалогически) отвечать на предметную активность автора, находимую во «внутреннем мире» книги. Именно «внутренний мир» (либо, по В. В. Федорову, «поэтический мир») служит общим горизонтом встречи автора и читателя через продуктивно преобразующее посредство персонажа произведения.
Литературовед не может очевидным образом совершить в свойственном ему акте ответственный поступок, остаться в рамках своей единоприродной человечности. Дело в том, что единственно существующий для его встречи с автором горизонт – событие словесного высказывания – не столь однороден, монолитен, как предметный горизонт «поэтического мира». Слово автора бытийственно, вбирает в себя реальность завершаемого события. Слово литературоведа рефлективно, ближайшим образом направлено на преднаходимое слово. Литературоведческое слово вынуждено лишь пассивно, овеществленно отражать чреватое бытием слово автора.
При всем очевидном несходстве высказывания автора и исследователя, именно в словесном горизонте их встречи должен быть найден некий общий знаменатель, основа для их объединения в ответственном поступке, изначально не гарантированном, свободно совершающемся, не «закрытом» понятием. Таким общим знаменателем может послужить не конкретное смысловое, архитектоническое качество рассматриваемых актов (здесь существенное различие: трагическое, комическое и т. д. видение событий – для автора и стремление к адекватной верификации этого видения – для литературоведа). Искомый общий знаменатель – наличие архитектоники как таковой в поступках автора и исследователя, т. е. наличие участного усилия включить словесный акт в уникальное целое собственной жизни. В данном случае имеет место архитектоника эстетического объекта, произведения, в другом – «архитектоника действительного мира», содержащего в себе данное произведение как момент.
В событии встречи автора, героя и читателя заготовлено, таким образом, место и для четвертого участника – литературоведа. И последний должен участвовать в диалоге на общих основаниях, т. е. ответственно к нему приобщаться, а не выступать пассивным, «отбрасывающим себя в небытие» регистратором уже случившегося. Читатель, «входя» в целостность произведения, ответственен только за себя, соучаствует в том, что ему предлежит как поле предметной, дословесной реакции. Литературовед приходит к встрече с позиции бесконечно более отдаленной, по сути дела, трансцендентной. В этой позиции осознаны и истолкованы функции и поступки автора, героя и читателя, сама же завершенная, словесно-бытийная целостность предстоит исследовательскому взгляду как объективный факт.
На литературоведа возложена особая миссия: не просто зеркально, предельно адекватно отразить, познать целостность произведения, но вернуть завершенный, вычлененный из жизненного потока результат встречи трех участников эстетического события в сферу реального ответственного поступка-дела. Только таким образом будет восстановлена и подтверждена «архитектоника действительного мира» или, иначе, «архитектоника ценностного переживания мира» (ФП. С. 122, 127).
Акт литературоведа вовсе не «ведческий» по своей предельной задаче. Творимая им «архитектоника действительного мира» тем и отличается от архитектоники художественного целого, что содержит в себе это последнее как момент. Исследователь словесности поднимается до осознания проблематичности этого факта. Проблема здесь состоит в том, что художественная архитектоника без инкарнирующего усилия литературоведа существует в реальности как инородное вкрапление, в которое можно либо целиком войти как в некий самодостаточный «мир», либо отнестись сугубо нейтрально, познавательно, не вдаваясь в краеугольный вопрос о том, почему, на каком жизненном основании существует этот «мир» как таковой – здесь и сейчас, входя в событие моего бытия.
Слово литературоведа должно обладать вненаходимостью, аналогичной вненаходимости автора, завершающего реальное жизненное событие. Литературовед тоже «творит, но видит свое творение только в предмете» (ЭСТ. С. 9), он тоже должен «застигнуть мир без себя», воссоздать его единство, объяснить наличие в нем некоего упорствующего в своей целостности словесно-художественного вкрапления. Бытовое слово, высказывание не составляет ведь проблемы, легко возвращается в реальность, материализуется в виде внешнего действия. Оно несет сугубо прагматические функции, не создает никакой замкнутой, обладающей собственным бытием альтернативной реальности, которая требует произнесения суждения-поступка. Только ответственный поступок литературоведа и способен воссоздать «единственную единственность» архитектоники действительного мира.
Переход от предметной реакции читателя к словесной реакции литературоведа изоморфен переходу от предметной активности созерцателя (субъекта дохудожественного эстетического восприятия) к предметно-словесной активности автора. Активность созерцателя, не порождающая никакого материального объекта, текста, еще всецело находится в пределах жизненного поступка, строит архитектонику действительного мира. Активность автора размыкает единство жизненного поступка-дела, воплощается в знаковый объект, обладающий собственной реальностью, целостной архитектоникой, альтернативной действительному потоку событий. Реакция читателя замкнута всецело в рамках этой, вторичной архитектоники. Реакция литературоведа, совмещающая в себе черты поступка-мысли и поступка-видения, преображается в конечном счете в итоговый поступок-дело, возвращающий событие создания произведения в первоначальную (но отныне коренным образом трансформированную) архитектонику действительного мира. Исходный поступок созерцателя оказывается восполненным итоговым поступком литературоведа. Только в контексте экспликации функции каждого из участников эстетического события (созерцатель – автор – персонаж – читатель – литературовед) можно говорить о полноте истолкования эстетического акта как ответственного поступка.
Автор, как известно, должен занять активную позицию на границе завершаемого им события, эстетически отнестись к нему, не входя внутрь целого со своею предметной, преобразующей активностью. Аналогичным образом, литературовед должен также обрести позицию вненаходимости и, не входя буквальным образом в преднаходимую ситуацию существования словесного целого в предметной реальности, отнестись ответственно-познавательно к данному целому как таковому, в его основополагающих архитектонических основах.
В поисках оправдания особой завершающей функции исследователя как полноправного собеседника в эстетическом «диалоге согласия» не следует забывать, что, по мнению Бахтина, «автор, создавая свое произведение, и не предполагает специфического литературоведческого понимания, не стремится создать коллектив литературоведов» (ЭСТ. С. 367). Как отнестись к данному высказыванию? Прежде всего следует учесть, что здесь имеется в виду вполне определенное направление в литературоведении (ср. следующую фразу: «Современные литературоведы (в большинстве своем структуралисты)…» и т. д.). Кроме того, необходимо напомнить, что из четырех участников эстетического события каждый последующий появляется на сцене, так сказать, с «необязательной необходимостью». Дохудожественный эстетический акт созерцателя не порождает оформленного в материале текста, а значит, читатель может здесь лишь потенциально подразумеваться. Буквально же говорить о предназначенности объекта своего созерцания, скажем, осеннего пейзажа, какому бы то ни было лицу, видимо, не приходится. Аналогичным образом, подразумеваемое присутствие литературоведа может стать буквальным с тою же степенью «необязательной необходимости».


